УДК 69
№ госрегистрации 01201363389
Инв. №
СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Руководитель темы, зав.кафедрой САПР, канд. архитектуры, доцент
П. П. Медведев (введение, основная часть, заключение)
Исполнители темы
старший преподаватель кафедры САПР, канд. техн. наук
Е. И. Ратькова (разделы 2.1 и 2.2, камеральная обработка натурных материалов и подготовка графических баз данных)
доцент кафедры САПР, канд. техн. наук
Л. А. Девятникова (разделы 2.1 и 2.2, камеральная обработка натурных материалов и подготовка графических баз данных)
РЕФЕРАТ
Отчет 482 с., 2 ч., 850 рис., 1 табл., 112 источников, 2 прил.
ПАМЯТНИКИ, НАРОДНАЯ АРХИТЕКТУРА, ОБРАЗНО-ГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕКСТОВЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, СЕВЕРНОЕ ПООНЕЖЬЕ, СЕТЬ ИНТЕРНЕТ
Данный проект, выполнявшийся в 2013 году при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (Грант РГНФ, 2013-2014, № 13-04-12008в), явился очередным шагом в программе многолетней работы специалистов кафедры систем автоматизированного проектирования строительного факультета Петрозаводского государственного университета по проблемам сбора, учета, систематизации и анализа информации по весьма специфическому и достаточно сложному по своей морфологии объекту исследования под названием «Народное зодчество Российского Севера», представляющего несомненный интерес в плане более широкого и глубокого изучения отечественного историко-архитектурного наследия.
Проект предполагает дальнейшее наполнение, совершенствование и развитие на базе натурных материалов историко-архитектурных экспедиций ПетрГУ 1982-86 годов многоцелевой гипертекстовой базы данных для локально-распределенных сетей на машинных носителях IBM PC и для глобальной сети Интернет с использованием графических пакетов AutoCAD и Adobe PhotoDeluxe, СУБД Access, типового табличного процессора Excel, текстовых редакторов Word, Notepad и языка гипертекстовой разметки HTML ориентировочным объемом 300 файлов.
Новизна проекта заключается в новизне впервые вводимых в научный обиход сведений о своеобразии народного зодчества 19 - 20 веков на территории одного из специфических историко-архитектурных субрегионов Российского Севера, территориально охватывающего северную часть Онежского района Архангельской области (северная часть бассейна реки Онеги и Онежский берег Белого моря).. Результаты проекта будут иметь прикладное значение в работе архитектурно-строительных и проектно-реставрационных организаций Республики Карелия и Архангельской области, Карельского научного центра и Архангельского филиала РАН, Госкомитетов по спорту и туризму РК и АО, Министерства культуры РК и Центров по охране памятников истории и культуры РК и АО, в учебном процессе ПетрГУ, Поморского ГУ им. М.В. Ломоносова, факультета «Дизайн» Петрозаводского филиала Международного славянского института (г. Москва) и многих других вузов и средних учебных заведений Северо-Запада России.
Содержание
Часть 1
Введение
1 Основные цели и задачи исследования
2 Групповые системы населенных мест Северного Поонежья
2.1 Групповые системы населенных мест Северного Поонежья (Онежский район)
2.1.1 Верховская (Верхнемудьюжская) ГСНМ, Чекуевская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область
2.1.2 Вонгудская ГСНМ, Кокоринская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область
2.1.3 Ворзогорская ГСНМ, Нименьгская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область
2.1.4 Каменно-Ощиринская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область
2.1.5 Карельско-Высокогорская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область
2.1.6 Кушерецкая ГСНМ, Малошуйская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область
2.1.7 Кяндская ГСНМ, Тамицкая сельская администрация, Онежский район, Архангельская область
2.1.8 Лямицкая ГСНМ, Пурнемская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область
2.1.9 Макарьино-Семеновская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область
2.1.10 Малошуйская ГСНМ, Малошуйская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область
2.1.11 Мондинская ГСНМ, Чекуевская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область
2.1.12 Нименьгская ГСНМ, Нименьгская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область
2.1.13 Онежская ГСНМ, г. Онега, Онежский район, Архангельская область
Часть 2
2.1 Групповые системы населенных мест Северного Поонежья (Онежский район)
2.1.14 Петровско-Сидоровская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область
2.1.15 Пирзапелдо-Кириловская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область
2.1.16 Подпорожская ГСНМ, Кокоринская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область
2.1.17 Порогско-Павловская ГСНМ, Кокоринская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область
2.1.18 Пурнемская ГСНМ, Пурнемская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область
2.1.19 Тамицкая ГСНМ, Тамицкая сельская администрация, Онежский район, Архангельская область
2.1.20 Унежемская ГСНМ, Малошуйская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область
2.1.21 Устькожская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область
2.1.22 Чекуевская ГСНМ, Чекуевская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область
2.2 Групповые системы населенных мест Северного Поонежья (Приморский район)
2.2.1 Ненокская ГСНМ, Ненокская сельская администрация, г. Северодвинск, Архангельская область
2.2.2 Пертоминско-Красногорская ГСНМ, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область
2.2.3 Уно-Лудская ГСНМ, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область
Заключение
Список использованных источников
Приложение А. Архитектурно-типологический кодификатор групповых систем населенных мест (поселенческих кластеров)
Приложение Б. Групповые системы населенных мест Архангельского Поонежья конца XIX - второй половины XX веков
Введение
Проект предполагает дальнейшее наполнение, совершенствование и развитие на базе натурных материалов историко-архитектурных экспедиций ПетрГУ 1982-86 годов многоцелевой гипертекстовой базы данных для локально-распределенных сетей на машинных носителях IBM PC и для глобальной сети Интернет с использованием графических пакетов AutoCAD и Adobe PhotoDeluxe, СУБД Access, типового табличного процессора Excel, текстовых редакторов Word, Notepad и языка гипертекстовой разметки HTML ориентировочным объемом 300 файлов.
На период 2013 года при выполнении проекта планировался следующий порядок работы. Первый квартал – проведение камеральной обработки натурных материалов, накопленных в процессе проведения историко-архитектурных экспедиций ПетрГУ 1982-1986 гг., по системе расселения, групповым системам населенных мест и традиционным сельским поселениям Северного Поонежья с копированием и сканированием этих материалов с полевых обмерных кроков и рабочих тетрадей, а также сбор и анализ архивных и литературных источников по теме проекта с целью составления библиографического списка, для его дальнейшего использования при подготовке архитекурно-типологических описаний обследованных объектов.
Второй квартал - проведение предварительного анализа подготовленных на первом этапе работы фотоиллюстративных, графических и текстовых материалов, их сверка с архивными и литературными источниками и подготовка с использованием пакетов AutoCAD-2006, Adobe PhotoDeluxe и офисного приложения Microsoft Paint-2007 графических файлов расширения *.dwg, *.bmp и *.jpg, содержащих схематические карты системы расселения, картосхемы групповых систем населенных мест и чертежи с генпланами традиционных сельских поселений Северного Поонежья.
Третий квартал - подготовка локальных символьно-числовых баз данных с расширениями *.xls и *.mdb в форматах табличного процессора Microsoft Excel-2007 и системы управления базами данных Microsoft Access-2007 по групповых системам населенных мест и традиционным сельским поселениям Северного Поонежья с использованием специальных архитектурно-типологических кодификаторов и проведение в них комплексного архитектурно-типологического и математико-модельного анализа в сопоставлении с аналогичными объектами на смежных территориях Южного Поонежья, Архангельского Примошья, Архангельского Поважья, Восточного Обонежья и Карельского Поморья с целью составления на основе полученных результатов списков объектов, предлагаемых к включению в состав планируемого Web-сайта, и подготовки необходимой информации для составления их архитектурно-типологических описаний.
Четвертый квартал - подготовка архитектурно-типологических описаний традиционных расселенческо-поселенческих образований Северного Поонежья с использованием фото-иллюстративного материала, картосхем и чертежей генеральных планов и составление необходимых текстовых файлов расширения *.doc и *.txt на базе текстовых редакторов Microsoft Word-2007 и Notepad-2007, разработка макета Web-сайта с использованием языка гипертекстовой разметки HTML и наполнение его отдельных разделов с адаптацией, модификацией и корректировкой файлов расширения *.dwg, *.bmp и *.jpg, в процессе их включения в состав Web-страницы, с использованием пакетов AutoCAD-2006, Adobe PhotoDeluxe и офисного приложения Microsoft Paint-2007, подготовка промежуточного отчета по НИР для его регистрации и опубликования в Государственном информационном фонде «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (г. Москва).
За период 2013 года была выполнена камеральная обработка натурных материалов по памятникам народного зодчества, собранных историко-архитектурными экспедициями ПетрГУ в 1982-1986 годах на территории Северного Поонежья (Онежского и Приморского районов Архангельской области). С использованием натурных схем и обмерных кроков подготовлено: 53 картосхемы и 93 архивных топографических карты, иллюстрирующих особенности системы расселения на территории обследованного историко-архитектурного субрегиона, 28 планировочных схем традиционных групповых систем населенных мест (поселенческих кластеров) и 42 чертежа с генпланами сельских поселений, представляющих историко-архитектурную ценность или архитектурно-типологический интерес для исследователей народного зодчества.
В форматах табличного процессора Microsoft Excel-2003 и системы управления базами данных Microsoft Access-2003 с использованием специальных архитектурно-типологических кодификаторов проведено наполнение макетов локальных символьно-числовых баз данных, содержащих историко-архитектурную информацию по 17 групповым системам населенных мест и по 67 традиционным сельским поселениям, выполнены их детальные архитектурно-типологический и математико-модельный анализы с целью включения результатов исследования в соответствующие справочно-информационные разделы разрабатываемой Web-страницы. На основании результатов предметно-содержательного анализа был развит и дополнен общий список систем и объектов народного зодчества, представляющих историко-архитектурную ценность и рекомендованных для включения в состав основных тематических разделов Web-страницы. С использованием архитектурно-типологических кодификаторов было подготовлено 157 текстовых файла с расширением *.doc и 125 файлов расширения *.txt общим объемом 369,17 Мб, содержащих архитектурно-типологические описания отдельных памятников архитектуры. На базе графического пакета AutoCAD-2004-2006 было подготовлено 42 графических файла расширения *.dwg общим объемом 7,71 Мб с изображениями генпланов сельских поселений для их последующей конвертации в файлы расширения *.jpg и *.zip.
Был также выполнен анализ полевого и архивного фотоиллюстративного материала, подготовлено 661 фотография, проведено их сканирование и корректировка с использованием возможностей графического пакета Adobe PhotoDeluxe и офисного приложения Microsoft Paint-2003. Был также подготовлен фотоиллюстративный материал и элементы графического дизайна разрабатываемой Web-страницы, содержащиеся в 3 файлах расширения *.gif объемом 86,00 Кб, в 158 файлах расширения *.bmp объемом 340 Мб, в 4905 файлах расширения *.jpg объемом 1246,60 Мб и в 57 файлах расширения *.zip объемом 18,60 Мб. В итоге образно-графическая информация по памятникам архитектуры, включенная в структуру рабочей версии Web-страницы, оказалась представленной в 5568 файлах различного расширения общим объемом 277,50 Mб.
С использованием языка гипертекстовой разметки HTML было подготовлено 606 файлов расширения *.html общим объемом 12,30 Мб для работы с текстовой и образно-графической информацией в структуре рабочей версии Web-страницы по памятникам архитектуры Северного Поонежья, включающей 15 тематических разделов: 1) введение; 2) субрегиональная система расселения; 3) групповые системы населенных мест (поселенческие кластеры); 4) историко-архитектурные комплексы (исторические поселения, архитектурно-ландшафтные комплексы и некрополи); 5) крестьянские усадьбы; 6) жилые дома; 7) хозяйственные постройки и сооружения; 8) культовые постройки и сооружения; 9) прочие постройки и сооружения; 10) функционально-конструктивные и архитектурно-декоративные элементы и детали; 11) мебель, бытовая утварь и плотницкие инструменты; 12) карты; 13) библиография, 14) примечания и 15) тезисы НИР студентов кафедры САПР ПетрГУ.
При этом в раздел «Введение» разработанной Web-страницы была включена обзорная информация об основных направлениях научно-исследовательской работы специалистов кафедры САПР ПетрГУ, а также краткое описание результатов предшествующих теоретических и прикладных исследований, проведенных ими за период 1991-2012 годов в области изучения проблем морфологии традиционных архитектурно-пространственных объектов и систем народного зодчества Российского Севера. В этом же разделе нашла отражение общая характеристика цели и основных задач реализованного проекта, а также были очерчены сфера использования результатов научно-исследовательской работы и круг заинтересованных пользователей.
В свою очередь раздел под названием «Субрегиональная система расселения» посвящен описанию субрегиональной демоэкосистемы, сформировавшейся в границах Архангельского Поонежья за период XV-XX веков. С привлечением сведений из архивно-литературных и атласно-картографических источников проведен ее предметно-содержательный анализ, детально исследован спектр типологических характеристик сложившегося на территории Архангельского Поонежья субрегионального расселенческого образования, особенность которого обусловлена спецификой трудовой деятельности населения и его территориального распределения, а также своеобразием социально-экономической организации поселенческой ткани и спецификой хозяйственного освоения территории; приведена обобщенная характеристика рисунка поселенческой ткани и исследованы ее взаимосвязи с формами окружающего природного ландшафта, прослежено влияние на процесс формирования архангельско-поонежской системы расселения сложного комплекса специфических природно-климатических, исторических, социально-экономических и этнических факторов [96, c. 14, 36-39].
В раздел «Групповые системы населенных мест (поселенческие кластеры)» была включена информация с кодификационным описанием 17 и с архитектурно-типологическим описанием 10 групповых систем населенных мест (ГСНМ) Северного Поонежья, сформировавшихся из тяготеющих друг к другу поселений и нередко именуемых «гнездами» деревень или поселенческими кластерами. При этом архитектурно-типологические описания групповых систем были составлены с учетом: 1) характера трудовой деятельности населения ГСНМ (классы - «К»); 2) социально-экономических и эволюционно-генетических закономерностей возникновения ГСНМ (подклассы - «ПК»); 3) особенностей объемно-планировочной структуры ГСНМ (типы - «Т»); 4) формые пятна застройки ГСНМ (подтипы - «ПТ»); 5) композиционных особенностей внутренней организации ГСНМ (виды - «В»); 6) характера акцентировки пятна застройки ГСНМ (подвиды - «ПВ»); 7) особенностей взаимосвязи ГСНМ с окружающим ее природным ландшафтом (разновидности - «Р»). В состав раздела также включен информационный блок, содержащий архитектурно-типологический кодификатор групповых систем населенных мест и кодификационное описание традиционных групповых систем Северного Поонежья.
В свою очередь в раздел «Историко-архитектурные комплексы (исторические поселения, архитектурно-ландшафтные комплексы и некрополи)» вошла информация с кодификационным описанием 67 и с архитектурно-типологическим описанием 45 традиционных сельских поселениях (ТСП) Северного Поонежья, выполненным с учетом: 1) особенностей социально-функционального назначения ТСП с учетом преобладающего и побочного направления народно-хозяйственной деятельности проживающего в них населения (классы - «К»); 2) вариативности ролевой функции ТСП в социально-экономической организации субрегиональной поселенческой ткани с учетом размеров (дворности) поселений и степени оседлости населения (подклассы - «ПК»); 3) особенностей функционального зонирования территории ТСП с учетом функционального назначения и количества зон с характеристикой территориально-пространственной целостности пятна застройки (группы - «Г»); 4) особенностей территориально-пространственной связи внутрипоселенческой ткани ТСП с естественной и искусственной транспортной инфраструктурой (подгруппы - «ПГ»); 5) вариативности объемно-планировочной структуры селитьбы ТСП (типы - «Т»); 6) вариативности форм пятна застройки ТСП (подтипы - «ПТ»); 7) вариативности композиционных приемов архитектурно-пространственной организации внутрипоселенческой ткани ТСП по отношению к структурообразующим элементам с оценкой степени регулярности застройки (виды - «В»); 8) вариативности архитектурно-композиционных приемов акцентировки пятна застройки ТСП (подвиды - «ПВ»); 9) особенностей взаимодействия внутрипоселенческой ткани ТСП с окружающим их природным ландшафтом (разновидности - «Р»); 10) особенностей зрительного восприятия внутрипоселенческой ткани ТСП (подразновидности - «ПР»). В состав раздела также включено два информационных блока, содержащих обзор результатов исследования морфологии традицилнных сельских поселений Российского Севера и архитектурно-типологический кодификатор сельских поселений и кодификационное описание традиционных сельских поселений Северного Поонежья.
В свою очередь в разделы, содержащие сведения об отдельных постройках и сооружениях, вошла образно-графическая информация в виде фотогалереи с видами традиционных крестьянских домов-комплексов (127 объектов), хозяйственно-бытовых и хозяйственно-производственных (13 объектов), а также прочих построек и сооружений (26 объектов).
В свою очередь в раздел «Культовые и некрокультовые постройки и сооружения» была включена атрибутированная информация о 35 церквях, 18 часовнях, 7 колокольнях и образно-графическая информация в виде фотогалереи, включающей 187 иллюстраций общего вида и конструктивных деталей культовых построек Северного Поонежья.
Далее в раздел «Функционально-конструктивные и архитектурно-декоративные элементы и детали» была включена образно-графическая информация в виде фотогалереи, иллюстрирующей особенности декоративной резьбы кронштейнов, причелин, ветрениц, куриц, оконных наличников, а также конструктивного устройства декоративных балконов и мезонинов (197 объектов), а в раздел «Карты» были включены 52 картосхемы с указанием территориально-пространственного расположения земель Северного Поонежья и изображения 93 архивных карт.
В раздел «Библиография» вошел список из 146 литературных и атласно-картографических источников, использованных при работе над проектом и содержащих сведения по географии, археологии, истории, этнографии, архитектуре и культуре Северного Поонежья, а в разделе «Примечания» нашли отражение краткие сведения о творческом коллективе, участвовавшем в разработке Web-страницы, и о вкладе каждого исполнителя в проделанную работ. Наконец, в разделе «Тезисы НИР студентов кафедры САПР ПетрГУ» были включены тезисы научных докладов студентов на 65 научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, проводившейся в апреле 2013 года. В итоге общий объем рабочей версии Web-страницы составил 5588 файлов различного расширения общим объемом 278,93 Мб.
Новизна проекта заключается в создании комплексной динамически развивающейся базы данных по памятникам архитектуры различного иерархического уровня в сети Интернет, в слабой изученности (а по ряду районов - в северной части бассейна реки Онеги и вдоль Онежского берега Белого моря - практически полной не изученности) объекта исследования, в комплексном подходе к изучению выбранной территории, в новизне методики комплексных ареальных исследований и математико-статистического анализа с картографированием результатов на базе новых информационных технологий.
Результаты проекта будут иметь прикладное значение в работе архитектурно-строительных и проектно-реставрационных организаций Республики Карелия и Архангельской области, Карельского научного центра и Архангельского филиала РАН, Госкомитета по спорту и туризму РК и соответствующего отдела администрации АО, Министерства культуры РК и Центра по охране памятников истории и культуры МК РК, отдела культуры администрации АО, научно-реставрационных и архитектурно-проектных организаций РК и АО, в учебном процессе строительного и исторического факультетов ПетрГУ, Поморского ГУ им. М.В. Ломоносова, факультета «Дизайн» Петрозаводского филиала Международного славянского института (г. Москва) и многих других вузов и средних учебных заведений Северо-Запада России.
По согласованию с руководством Регионального центра новых информационных технологий (РЦНИТ) размещение разработанной в рамках проекта Web-страницы по памятникам народной архитектуры Северного Поонежья планируется на сервере Петрозаводского государственного университета по окончанию работы над проектом. В итоге по результатам проведенных исследований за период 2013 года опубликовано 3 научных статьи в Государственном информационном фонде «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (г. Москва) в форме отчета о научно-исследовательской работе в трех частях общим объемом 30,00 п.л. (720 м.п.с.) [97].
1 Основные цели и задачи исследования
Данный проект нацелен на разработку современных информационных методов сбора, систематизации и анализа историко-архитектурной информации по памятникам народного зодчества Российского Севера на базе регионального центра коллективного пользования при РЦНИТ ПетрГУ с целью использования их в культурно-охранной деятельности Министерства культуры РФ, Республики Карелия и Архангельской области, Центра по охране памятников истории и культуры МК РК и отдела по культуре администрации Архангельской области, Карельского научного центра и Архангельского филиала РАН, Госкомитетов по спорту и туризму РК и Архангельской области, в практической работе архитектурно-строительных и реставрационно-проектных организаций Госкомитета по строительству, стройиндустрии и архитектуре РК и Архангельской области, в учебном процессе и научно-исследовательской работе строительного и исторического факультетов Петрозаводского государственного университета, Поморского государственного университета им. М.В. Ломоносова, факультета «Дизайн» Петрозаводского филиала Международного славянского института (г. Москва) и других вузов и средних учебных заведений Северо-Запада России.
Согласно подготовленной на данный проект заявке при создании базы данных по памятникам архитектуры Северного Поонежья для сети Интернет предполагалось использовать следующие методы:
а) разработанный на кафедре архитектуры и усовершенствованный на кафедре САПР ПетрГУ метод структурно-типологического описания памятников народного зодчества с применением кодировочных таблиц;
б) разработанные на кафедре САПР ПетрГУ макеты локальных, локальных сетевых и с удаленным доступом комплексных баз данных, а также методы математико-модельного анализа над символьно-числовыми историко-архитектурными базами данных.
С целью создания намеченной к разработке интернет-страницы авторами проекта было запланировано выполнение следующих этапов работ:
1) камеральная обработка натурных материалов историко-архитектурных экспедиций ПетрГУ 1982-1986 гг. и архивно-литературных материалов по памятникам народного зодчества Северного Поонежья - одного из специфических историко-архитектурных субрегионов Российского Севера, территориально охватывающего территориально охватывающего северную часть Онежского района Архангельской области (северная часть бассейна реки Онеги и Онежский берег Белого моря);
2) наполнение образно-графической и текстовой подбаз данных по памятникам архитектуры различного иерархического уровня на основе технологии, разработанной и апробированной в 1996-2012 гг. при формировании модельных фрагментов баз данных для локальных сетей и сети Интернет;
3) дальнейшая разработка и совершенствование общей структуры и художественного дизайна информационно-поисковых систем над комплексной многоцелевой историко-архитектурной базой данных в технологии сервер-клиент;
4) проведение архитектурно-типологического и математико-статистического анализов включенной в базу данных историко-архитектурной информации и включение полученных результатов в справочно-информационный блок Web-страницы;
5) апробация работы с базой данных в сети Интернет и решение тестовых информационно-поисковых научно-исследовательских задач.
В соответствии с заявленным в проекте планом работы на период 2013 года специалистами кафедры САПР ПетрГУ предусматривалось:
1) проведение камеральной обработки натурных материалов, накопленных в процессе проведения историко-архитектурных экспедиций ПетрГУ 1982-1986 гг., по системе расселения, групповым системам населенных мест и традиционным сельским поселениям Северного Поонежья с копированием и сканированием этих материалов с полевых обмерных кроков и рабочих тетрадей, а также сбор и анализ архивных и литературных источников по теме проекта с целью составления библиографического списка, для его дальнейшего использования при подготовке архитектурно-типологических описаний обследованных объектов;
2) проведение предварительного анализа подготовленных на первом этапе работы фотоиллюстративных, графических и текстовых материалов, их сверка с архивными и литературными источниками и подготовка с использованием пакетов AutoCAD-2006, Adobe PhotoDeluxe и офисного приложения Microsoft Paint-2007 графических файлов расширения *.dwg, *.bmp и *.jpg, содержащих схематические карты системы расселения, картосхемы групповых систем населенных мест и чертежи с генпланами традиционных сельских поселений Северного Поонежья;
3) подготовка локальных символьно-числовых баз данных с расширениями *.xls и *.mdb в форматах табличного процессора Microsoft Excel-2007 и системы управления базами данных Microsoft Access-2007 по групповых системам населенных мест и традиционным сельским поселениям Северного Поонежья с использованием специальных архитектурно-типологических кодификаторов и проведение в них комплексного архитектурно-типологического и математико-модельного анализа в сопоставлении с аналогичными объектами на смежных территориях Южного Поонежья, Архангельского Примошья, Архангельского Поважья, Восточного Обонежья и Карельского Поморья с целью составления на основе полученных результатов списков объектов, предлагаемых к включению в состав планируемого Web-сайта, и подготовки необходимой информации для составления их архитектурно-типологических описаний.
4) подготовка архитектурно-типологических описаний традиционных расселенческо-поселенческих образований Северного Поонежья с использованием фотоиллюстративного материала, картосхем и чертежей генеральных планов и составление необходимых текстовых файлов расширения *.doc и *.txt на базе текстовых редакторов Microsoft Word-2007 и Notepad-2007, разработка макета Web-сайта с использованием языка гипертекстовой разметки HTML и наполнение его отдельных разделов с адаптацией, модификацией и корректировкой файлов расширения *.dwg, *.bmp и *.jpg, в процессе их включения в состав Web-страницы, с использованием пакетов AutoCAD-2006, Adobe PhotoDeluxe и офисного приложения Microsoft Paint-2007, подготовка промежуточного отчета по НИР для его регистрации и опубликования в Государственном информационном фонде «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (г. Москва).
Выбор общей темы научно-исследовательских работ и темы для интернет-страницы был предопределен необходимостью проведения сбора, систематизации и анализа информации по объекту «Памятники народного зодчества» с целью создания информационно-справочных систем, содержащих сведения, необходимые:
1) для культурно-охранной деятельности (выявление, паспортизация и учет архитектурных памятников, а также контроль за их состоянием; формирование экспозиций музеев «под открытым небом»; решение научно-реставрационных задач);
2) для решения проектных задач в современной архитектурно-строительной практике с целью возрождения и преемственного развития национальных и культурных традиций народов Российского Севера (выявление наиболее общих закономерностей в архитектурно-строительной деятельности различных народов и народностей; моделирование и прогнозирование этих закономерностей в настоящем и будущем; решение комплексных полипараметрических научно-исследовательских задач на стыке различных научных областей).
Новизна интернет-страницы будет заключаться в новизне введенной в нее историко-архитектурной информации и подготовленного программного обеспечения. А информация, которая будет включена в состав интернет-страницы «Памятники архитектуры Северного Поонежья (версия АРСИ-2014)» может быть использована в культурно-охранной деятельности при паспортизации и государственном учете историко-архитектурных памятников, а также для решения научно-реставрационных задач по сохранению историко-культурного наследия.
2 Групповые системы населенных мест Северного Поонежья
Всего за период работы Историко-архитектурных экспедиций ПетрГУ 1982-1988 годов на территории Северного Поонежья было детально обследовано 17 групповых систем населенных мест. По результатам камеральной обработки накопленных историко-архитектурных материалов в процессе выполнения намеченных научно-исследовательских работ был подготовлен список групповых систем населенных Северного Поонежья, планируемых к включению в состав разрабатываемой в проекте Web-страницы.
В итоге в их число вошли:
а) с территории Онежского района:
1) Верховская (Верхнемудьюжская) ГСНМ, Чекуевская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
2) Вонгудская ГСНМ, Кокоринская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
3) Ворзогорская ГСНМ, Нименьгская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область.
4) Каменно-Ощиринская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
5) Карельско-Высокогорская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
6) Кушерецкая ГСНМ, Малошуйская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область.
7) Кяндская ГСНМ, Тамицкая сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
8) Лямецкая ГСНМ, Пурнемская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
9) Макарьино-Семеновская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
10) Малошуйская ГСНМ, Малошуйская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область.
11) Мондинская ГСНМ, Чекуевская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
12) Нименьгская ГСНМ, Нименьгская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область.
13) Онежская ГСНМ, г. Онега, Онежский район, Архангельская область.
14) Петровско-Сидоровская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
15) Пирзапелдо-Кириловская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
16) Подпорожская ГСНМ, Кокоринская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
17) Порогско-Павловская ГСНМ, Кокоринская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
18) Пурнемская ГСНМ, Пурнемская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
19) Тамицкая ГСНМ, Тамицкая сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
20) Унежемская ГСНМ, Малошуйская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область.
21) Устькожская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
22) Чекуевская ГСНМ, Чекуевская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
б) с территории Приморского района:
1) Ненокская ГСНМ, Ненокская сельская администрация, г. Северодвинск, Архангельская область.
2) Пертоминско-Красногорская ГСНМ, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область.
3) Уно-Лудская ГСНМ, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область.
2.1 Групповые системы населенных мест Северного Поонежья (Онежский район)
2.1.1 Верховская (Верхнемудьюжская) ГСНМ, Чекуевская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
Верховская (Верхнемудьюжская) групповая система населенных мест находится в южной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 89 км к югу от районного центра - города Онеги, и на расстоянии 17 км к северо-западу от деревни Анциферовский Бор - Анцифоров Бор - Ново-Анциферовская - Новоанциферовская - административного центра Чекуевской сельской администрации.
Верховская (Верхнемудьюжская) ГСНМ расположена на правом (северном) и левом (южном) берегах в излучине реки Мудьюги и образовалась в результате срастания деревень Ряхковская - Ряхновская - Верховье - Верголив - Рядновская - Рядковская - с. Ряхновское (1), Митинская - Митенская - с. Митенское (2) и Шутова (3) (рисунки 2.1-2.6) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 22; 82, карты]. На период полевых работ Историко-архитектурной экспедиции Петрозаводского государственного университета 1987 года в деревне Ряхковская - Ряхновская - Верховье - Верголив - Рядновская - Рядковская - с. Ряхновское насчитывалось 10 жилых домов и 4 дома к этому времени были уже утрачены, в деревне Митинская - Митенская - с. Митенское насчитывалось 36 жилых домов и 7 домов к этому времени были уже утрачены, а в деревне Митинская Шутова насчитывалось 23 жилых дома и один дом к этому времени был уже утрачен.
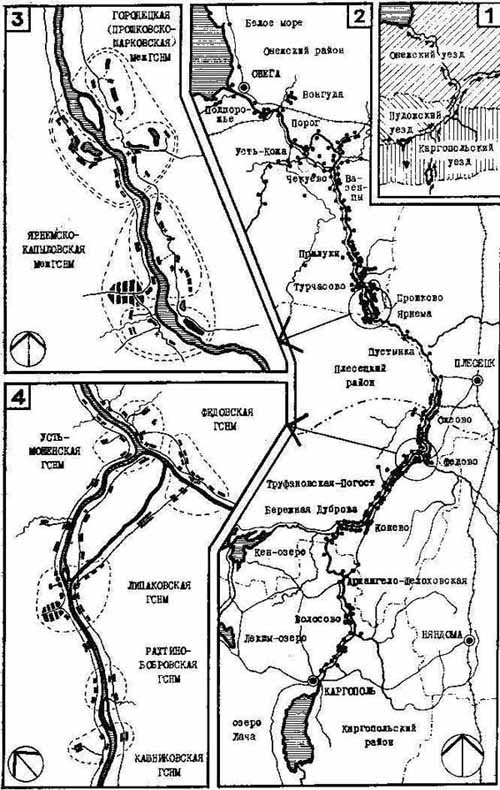
Рисунок 2.1 - Система расселения Онежского бассейна Архангельской области: 1 - административно-территориальное деление Онежского бассейна на период XVIII - XIX вв.; 2 - карта-схема населенных пунктов, обследованных историко-архитектурными экспедициями ПГУ (1982 - 1987 гг.); 3 - фрагмент системы расселения в среднем течении р. Онеги; 4 - фрагмент системы расселения в верхнем течении р. Онеги [48, с. 68, рис. 1].

Рисунок 2.2 - Фрагмент карты на портале «Onegaonline.ru» [82, карта].
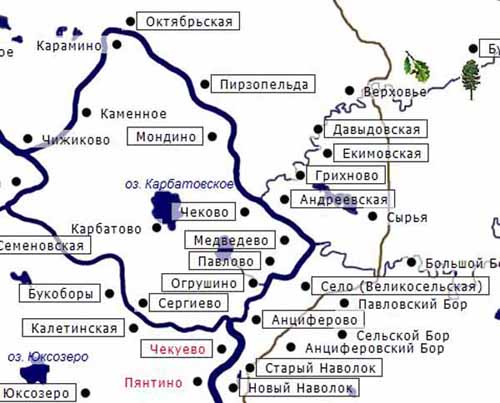
Рисунок 2.3 - Фрагмент карты на портале «Onegaonline.ru» [82, карта].
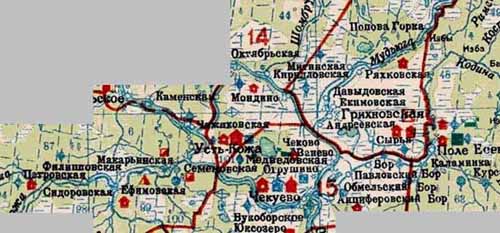
Рисунок 2.4 - Фрагмент карты «Онежский район Северной области», масштаб 1:500000, изд. ГУГСиК, НКВД СССР, 1937 г. [82, карта].

Рисунок 2.5 - Фрагмент карты «Онежский район Северной области», масштаб 1:500000, изд. ГУГСиК, НКВД СССР, 1937 г. [82, карта].
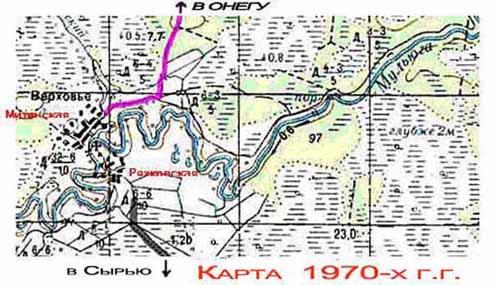
Рисунок 2.6 - Деревня Верховье - с. Верховье (дд. Митинская - Митенская - с. Митенское, Ряхковская - Ряхновская - Верховье - Верголив - Рядновская - Рядковская - с. Ряхновское и Шутова) (фрагмент топографической карты 1970-х гг.) [82, карта].
Также необходимо отметить, что к фрагменту топографической карты окрестностей деревень Митинская и Ряхковская 1970-х годов, опубликованной на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Верховье», приложена фотография, выполненная неизвестным автором в начале XX века (рисунок 2.7), с пояснением, подготовленным краеведом С. Головченко [82, фото].

Рисунок 2.7 - д. Верховье (Верхний Мудьюг) - с. Верхняя Мудьюга (дд. Митинская - Митенская - с. Митенское и Ряхковская - Ряхновская - Верховье - Верголив - Рядновская - Рядковская - с. Ряхновское). Храмовый «тройник» с. Верховье (Верхняя Мудьюга) - центр бывшего Верхне-Мудьюжского прихода и Мудьюжской (Алексеевской) волости: шатровый летний храм Входа Господня в Иерусалим (1751–1754 гг.), колокольня (1787 г.) и зимняя кубоватая церковь Тихвинской иконы Божией Матери (1783 г., перестроена в 1865 г.). Деревянная ограда, по описанию за 1896 г., сооружена в 1889 г. (автор съемки неизвестен, нач. 20 в.) [82, фото].
«На снимке начала 20 века неизвестным фотографом запечатлен храмовый «тройник» с. Верховье (Верхняя Мудьюга) - центр бывшего Верхне-Мудьюжского прихода и Мудьюжской (Алексеевской) волости: шатровый летний храм Входа Господня в Иерусалим (1751-1754 гг.), колокольня (1787 г.) и зимняя кубоватая церковь Тихвинской иконы Божией Матери (1783 г., перестроена в 1865 г.). Деревянная ограда, по описанию за 1896 г., сооружена в 1889 г.
Церкви и колокольня, вместе с почти вековыми лиственницами, елями и березами, окружавшими памятники по периметру, сгорели в ветреный день 10 августа 1997 г., в деревенский праздник Смоленской иконы Божией Матери. Храмы эти были не первые, судя по древним иконам, находящимся в настоящее время в музеях Москвы, Архангельска, Соловков.
В вышеназванный приход входили две деревни: Митинская и Ряхковская, живописно расположившиеся по обоим берегам небольшой р. Мудьюги. На 1920 г. их население составляло 932 человека при 174 дворах. Первые поселенцы, по преданию, обосновались здесь в 15 веке. Село разрослось после устройства в конце 16 века зимней дороги на Архангельск. До 1730 года Верхне-Мудьюжский приход входил в состав соседнего Мондинского прихода. Жители - крестьяне издревле занимались земледелием, скотоводством, заготовкой и сплавом леса, уходили на заработки (в «бурлаки»).
Село находится в 68 км от г. Онеги. Население - несколько десятков человек. Основу производства составляет крестьянское хозяйство О.М. Зайцевой. Ее стараниями построен клуб, создан народный музей, решаются продовольственные проблемы» [82].
На портале «Onegaonline.ru» также представлены сведения о Верхне-Мудьюжском приходе на 1896 год [36]. «Приход состоит из 2-х деревень: Ряхковской и Митинской, лежащих на обоих берегах р. Мудьюга, близ приходских храмов. До г. Архангельска - 365 вёрст, до г. Онега - 80 в., до ближайших приходов: Н.- Мудьюжскаго –5 в., Польскаго и Чекуевскаго - 20 в. Жителей к 1896г.: 344 м.п. и 434 ж.п., дворов – 128. Этот приход до 1730г. входил в состав Мондинскаго прихода, а с этого года обрел самостоятельность, в 1892 г. из него выделился Н.- Мудьюжский.
Имеется две приходских церкви (1896 г.): холодная, шатровая, с двумя престолами - главный, в ч. Входа Господня в Иерусалим, освященный 15 апреля 1758 г., придельный - в ч. Трех Святителей Вселенских: Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго, освящён 5 фев. 1754 г. Главным строителем этого храма, по преданию, был местный крестьянин Даниил Пантелеев.
Другая церковь однопрестольная, теплая, 6-главая, в ч. Тихвинской Иконы Б. Матери, освящ. 17 дек. 1865 г (после перестройки старого здания церкви, построенного в 1783 г.-С.Г.). Храм кубоватый.
Обе церкви дерев., с таковою же отдельно стоящей колокольней, постр. в 1787 г. (до 1892-1893 гг. колокольня была шатровой. - С. Головчкнко.) Здания обнесены дерев. оградой в 1889 г.
Внутри много древних икон, ризницей и прочими принадлежностями для богослужения скудны. Входоиерусалимский храм в 1893 г. обшит тесом. В 1893 и 1896 гг. приобретены 4 колокола усердием кр-н Козьмы Степановича Шерстобоева и Арсения Ивановича Барышева.
В пользу церквей имеется сенокосная пожня в 2 десятины 500 саженей, дающая в год до 20р. чистой прибыли. Кружечно-кошельковаго сбора в 1895 г. - 49 р. 10 к., свечей продано 5 пуд. Причт (священник и диакон) имеет 18 десятин земли, получает жалования 160 р. в год, другие доходы - до 100 р., помещается в 2-х домах, построенных: для священника - в 1876 г., для диакона - в 1857 г.
С 20 апреля 1886 г. открыта церковноприход. школа в наемном от крестьян помещении, учащихся в 1894-1895 уч.г. состояло 25 мальчиков. Закон Божий преподает местный священник бесплатно. Другие предметы - учительница, девица Анна Нифонтова, окончившая Жен. Епархиальное уч-ще., с жалованием 120 р. в год.
Из бывших священников известны: о. Симеон Ивановский, о. Даниил Ивановский, о. Яков Васильев, о. Иоанн Васильев, о. Василий Васильев, о. Петр Васильев - с 1808 по 1858 гг., о. Николай Куприянов - в 1859 г., о. Василий Легатов - в 1860 г., о. Даниил Родимов - до 1875 г., о. Петр Попов
- до 27 января 1896 г.
Ныне служит (1896 г.) о. Аркадий Александрович Смирнов,32 л., уволенный из 3 класса Тверской семинарии, на службе в должности псаломщика (Тверской Епархии) с 4 фев. 1886 г., в сане диакона (Арх. Епархии) с 31 окт. 1893 г., в сане священника в данном приходе с 25 фев. 1896 г.
Диакон о. Михаил Михайлович Нечаев, 23 л., уволенный из 2 класса дух. уч-ща, на службе с 1889 г., в описываемом приходе с 1891 г.» [36].
Дополнить приведенную характеристику позволяют также статистические данные, представленные на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Верховье», в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [82]. Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о деревнях Митинская (Митенская) и Ряхковская (Рядновская, Рядковская), правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 234-235; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о селе Митенское, в котором на этот момент насчитывалось 46 дворов, в которых проживало 268 человека (128 - мужского и 140 - женского пола), а также о селе Ряхновское, в котором на этот момент насчитывалось 42 двора, в которых проживало 283 человека (121 - мужского и 162 - женского пола) [82; 92, с. 44].
В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о деревне Митинская (Верховье). Количество жилых дворов на данный момент составляло 88 единиц. Количество населения: мужского пола - 217, женского пола - 262. (всего 479 человек). Там же имеется упоминание о д. Ряхковская (Верховье). Количество жилых дворов на данный момент составляло: 83 единицы. Количество населения: мужского пола - 185, женского пола - 207. (всего 392 человека). Деревни относились к Мардинской волости Верхне-Мудьюжского сельского общества и к Чекуевскому приходу [14, с. 172-173; 82].
А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о деревне Митинская, в которой насчитывалось 84 двора, в которых проживало 464 человека обоего пола. Там же имеется упоминание о д. Ряхновская (Верголив), в которой насчитывалось 90 дворов, в которых проживало 468 человек обоего пола. В данное время деревни относилась к Мудьюжской волости Верхне-Мудьюжского сельского общества [82; 93, с. 16].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» в деревне Митинская по переписи 1920 года насчитывалось 93 двора, а количество населения: мужского пола - 164, женского пола - 265 (всего 429 человек). В свою очередь в деревне Ряхковская (Верголив) в это же время насчитывалось 92 двора, а количество населения: мужского пола - 150, женского пола - 229 (всего 379 человек) [82; 84, с. 82]. В результате укрупнения волостей в 1924 году деревни Митинская и Ряхковская вошли в состав Мудьюжского сельского общества Чекуевской волости Онежского уезда [82; 95, с. 28-29].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о деревнях Митинская и Ряхковская, входящих в состав Мудьюжского сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 346; 82].
Дополнить характеристику деревни Верховье - с. Верховье (дд. Митинская - Митенская - с. Митенское, Ряхковская - Ряхновская - Верховье - Верголив - Рядновская - Рядковская - с. Ряхновское и Шутова) позволяют данные, опубликованные в работе историка и краеведа Г.П. Гунна «Каргополье - Онега», изданной в 1974 году [20]. «За Чекуевым Онега разделяется на два русла, образуя остров длиной в двадцать и шириной в десять километров. Судоходно только правое русло, левое используется для молевого сплава: бревна плывут к запани в Усть-Коже. По правому судоходному руслу Онега не меняет своего вида: те же невысокие луговые берега, кустарники, разве что, разделившись надвое, река стала немного поуже. К обычному луговому берегу со стогами мы и пристанем у устья речки Мудьюги» (рисунок 2.8) [82, фото].

Рисунок 2.8 - д. Верховье (Верхний Мудьюг) - с. Верхняя Мудьюга (дд. Митинская - Митенская - с. Митенское и Ряхковская - Ряхновская - Верховье - Верголив - Рядновская – Рядковская - с. Ряхновское). Храмовый «тройник» с. Верховье (Верхняя Мудьюга) - центр бывшего Верхне - Мудьюжского прихода и Мудьюжской (Алексеевской) волости: шатровый летний храм Входа Господня в Иерусалим (1751 - 54 г.г.), колокольня (1787 г.) и зимняя кубоватая церковь Тихвинской иконы Божией Матери (1783 г., перестроена в 1865 г.). Деревянная ограда, по описанию за 1896 г., сооружена в 1889 г. (автор съемки неизвестен, нач. 20 в.) [82, фото].
«Путь наш вначале по луговой тропинке вдоль берега этой речки. Через три километра будет село Нижняя Мудьюга, где есть только две поздние церкви, переделанные под хозяйственные помещения. Нам идти дальше - в верховье. Это еще четыре километра, путь нетрудный в хорошую погоду и не столь простой в дождливую пору, поскольку дорога идет низкими, сырыми местами.
Пройдя небольшой чахлый лесочек, мы выйдем в луга. Широко расстилается луговая ровень, уставленная бессчетными стогами, впереди, километрах в двух-трех, виднеются селение и вознесенный над всей местностью шатер. Везде на Севере по особенному ставились церкви. Где у воды, где в поле, и везде учтен рельеф местности: речная излучина, крутизна берега, обзор на ровном поле. В «каргопольской суши» церкви прекрасно оживляли скупой пейзаж. Здесь же, скорее, не сушь - а сырь. Луга, болотца, кустарники тянутся вокруг села во все стороны. И отовсюду, с дальних покосов, был виден шатер сельской церкви, он указывал дорогу к дому.
В центре села, у реки, на старом погосте, среди старых елей и лиственниц, стоит замечательный архитектурный ансамбль, ради которого стоило бы проделать и более сложный путь. Здесь мы въяве встречаем классический онежский «тройник»: шатровая и кубоватая церкви и колокольня.
Поистине замечательна древняя шатровая Входиерусалимская церковь XVII века с приделом Трех святителей XVIII века. В нашем путешествии мы повидали немало прекрасных шатровых церквей и каждый раз не перестаем удивляться этим феноменальным сооружениям. Нет ни одной из них, повторяющей другую, несмотря на общий принцип архитектурного решения. Каждая поставлена настолько по-своему, настолько неповторима в своем облике, что красота ее затмевает красоту предыдущей. Недавно мы восторгались церковью в Пияле - и вот вырастает в стороне от реки среди болотистых равнин новое чудо.
Поражает стройный, изящно прочерченный силуэт церкви. Никаких добавочных вертикалей, усиливающих взлет ввысь, как в Пияле, здесь нет: традиционный восьмерик на четверике. И как просто и внушительно все выполнено! Столпообразно ввысь подняты четверик с меньших размеров восьмериком на такую высоту, что вековые лиственницы оказываются ниже повала. Шатер высокий, стройный - его трудно определить словами, все дело в силуэте, в крутизне скатов, в соотношении ширины основания шатра с его высотой. Здесь то изящество и та простота линий, которые безошибочно свидетельствуют о древности. Крутую линию граней шатра продолжает шейка, которая имеет здесь форму усеченного конуса. Напомним, что завершение церкви - шатер, шейка, глава - срублено из горизонтально сложенных бревен и, как всегда, «без единого гвоздя».
В XVIII веке к храму был пристроен придел. При этом надо было не исказить красоты силуэта здания. Мастер (документально известно, что им был местный крестьянин Даниил Пантелеев) решил задачу блестяще. Он поставил с северной стороны небольшой, перекрытый широкой бочкой прируб, по высоте примерно равный высоте четверика. Соответственно каждому престолу в церкви прирублены апсиды. Здесь их две, сочлененные, пятигранной формы. Каждая апсида перекрыта бочкой, и обе бочки объединяются третьей с общей главкой, вырастающей из небольшого четверичка на кровле. Таким образом, и здесь использован тот же традиционный для нижней Онеги мотив трехлопастной широкой бочки.
С запада и северо-запада здание обводит небольшая крытая галерея, на которую ведет прекрасное высокое крыльцо на два всхода. Крыльцо поставлено так, что линии скатов кровли объединяют храм и придел, придают цельность западному фасаду.
Третье здание ансамбля - Тихвинская церковь, освященная в 1865 году. Это кубоватое сооружение с трапезной, притвором, крытым крыльцом. Конечно, здание это поздней постройки (весьма вероятно, оно копирует формы прежде стоявшей здесь церкви), но оно входит в ансамбль, связано с ним местоположением, силуэтом, без него разрушится целостность. Еще не так давно считалось, что на государственную охрану следует брать только самые древние памятники. Ныне наконец-то понято, что в ансамбле, будь то сельский погост или городская улица, ценны все составляющие и все подлежат охране.
Верхнемудьюжский ансамбль, представляющий исключительную историческую и культурную ценность, должен сберегаться с особенной тщательностью - он единственный из уцелевших, последний из онежских тройников. Схожий тройной ансамбль, стоявший недалеко отсюда, в Усть-Коже не уцелел - его сожгли» [20, с. 119-123].
Сведения о сооружениях Верховского погоста также содержатся в книге архитектора Ю.С. Ушакова «Ансамбль в народном зодчестве Русского Севера: Пространственная организация, композиционные приемы, восприятие» [107]. В разделе под заголовком «Выбор места в природной среде. Группировка селений и планировочные приемы» Ю.С. Ушаков писал: «Сохранение на территории русского Севера гнездовой группировки селений представляется особенно важным для изучения народного подхода к архитектурно-пространственной организации среды обитания, так как гнездовой тип, наиболее тесно связанный с природной основой, дает нам примеры интереснейших архитектурно-природных ансамблей, ибо природное начало выбранного места диктует и своеобразие группировки (композиции) гнезд селений. Это обстоятельство позволяет детально рассмотреть взаимодействие двух тесно связанных сфер - природы и архитектуры, составляющих основу жизненной среды. Именно гнездовой форме группировки селений наиболее свойственны структурность, соподчиненность и внутренняя организованность (окол-деревня-село, подчиненные центру - погосту). Данные проведенных автором обследований решительно опровергают неоднократно высказывавшееся этнографами мнение об отсутствии какого-либо порядка в гнездовой группировке селений.
Все обследованные гнезда селений объединены каким-либо природным элементом: излучиной или устьем реки, озером или озерной группой, полуостровом, островом или группой островов. Характерные повторяющиеся особенности гнезд селений, сложившихся в различных природно-географических условиях обширной территории русского Севера, позволили автору ввести разделение гнездовой группировки на три подтипа: 1) гнезда селений при малой реке, когда селения размещены на обоих берегах реки (рис. 2, 1); 2) гнезда селений при большой реке, когда селения занимают один из берегов (рис 2,2) и 3) гнезда селений при озере или озерной группе (рис. 2, 3). И.В. Маковецкий в работе, посвященной архитектуре русского народного жилища, не соглашаясь с преобладанием гнездового типа расселения для Севера, указывает еще на один тип, характерный для приморских районов, который складывался и развивался в виде крупных промысловых и торговых сел, не имеющих непосредственно тяготеющих к ним деревень [107, с. 20]. Этот тип, действительно, более всего характерен для прибрежной зоны Беломорья. К нему можно отнести такие крупные села, как Нёнокса, Пурнема, Варзогоры, Малошуйка, Кушерека, Шуерецкое, Ковда, Варзуга. Население этих сел, расположенных вблизи устьев рек, занималось речным и морским рыбным промыслом, добычей морского зверя и солеварением. Соглашаясь с Маковецким в своеобразии причин возникновения подобного типа расселения, можно указать на то, что каждое из поименованных сел состоит все же из группы компактно расположенных деревень, и следует говорить, по сути дела, о своеобразной разновидности гнездового типа расселения - приморско-промыслового, выделив его в четвертый подтип (рис. 2, 4)» (рисунок 2.9) [107, с. 20-21, рис. 2].
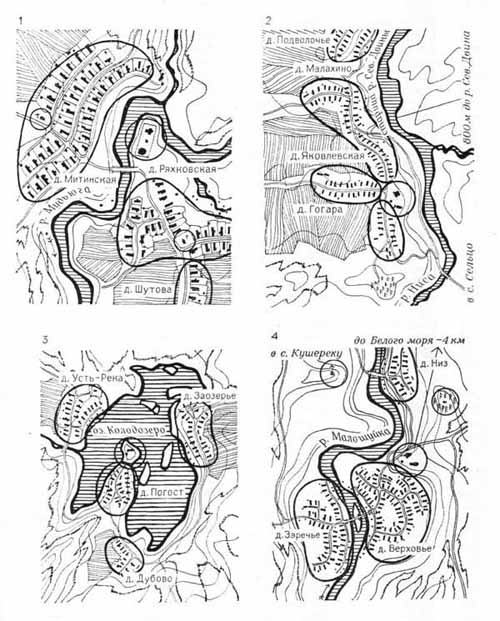
Рисунок 2.9 - Примеры основных типов гнезд селений. 1 - при малой реке: село Верховье (В. Мудьюг), Онежский район Архангельской области; 2 - при большой реке: село Заостровье, Березниковский район Архангельской области; 3 - при озере: село Колодозеро, Пудожский район КАССР; 4 - приморско-промысловое: село Малошуйка, Онежский район Архангельской области [107, с. 20-21, рис. 2].
А в разделе под заголовком «Приемы архитектурно-пространственной организации селений и их систематизация» Ю.С. Ушаков приводит классификационную таблицу традиционных поселений, в числе которых упомянуто село Верховье (Верхний Мудьюг) Онежского района Архангельской области, отнесенное им к центричным с круговым восприятием, приречным, при малой реке населенным пунктам типа «I, A, 1, a» (рисунок 2.10) [107, с. 40-41, табл. 2].
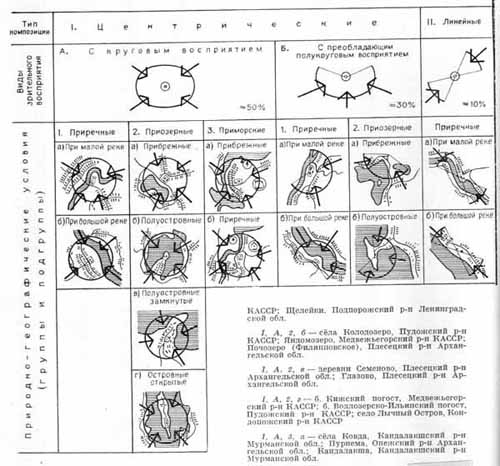
Рисунок 2.10 - Таблица 2. I, A, 1, a - села Верховье (Верхний Мудьюг), Онежский р-н Архангельской обл., Ратонаволок, Емецкий р-н Архангельской обл., Кулига Дракованая, Красноборский р-н Архангельской обл.; Бестужево, Октябрьский р-н Архангельской обл.; Усть-Кожа (Макарьино), Онежский р-н Архангельской обл. I, А, 1, б - села Турчасово, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Ракулы, Холмогорский р-н Архангельской обл.; Заостровье, Березниковский р-н Архангельской обл.; Конецдворье, Приморский р-н Архангельской обл. I, А, 2, а - села Лядины, Каргопольский р-н Архангельской обл.; Вёгоруксы, Медвежьегорский р-н KACСP; Типиницы, Медвежьегорский р-н КАССР; Щелейки, Подпорожский р-н Ленинградской обл. I, А, 2, б - села Колодозеро, Пудожский р-н КАССР; Яндомозеро, Медвежьегорский р-н КАССР; Почозеро (Филипповское), Плесецкий р-н Архангельской обл. I, А. 2, в - деревни Семеново, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Глазово, Плесецкий р-н Ар-хангельской обл. I, А, 2, г - б. Кижский погост, Медвежьегорский р-н КАССР; б. Водлозерско-Ильинский погост, Пудожский р-н КАССР; село Лычный Остров, Кондопожский р-н КАССР. I, А, 3, а - села Ковда, Кандалакшский р-н Мурманской обл.; Пурнема, Онежский р-н Архангельской обл.; Кандалакша, Кандалакшский р-н Мурманской обл. I, А, 3, б - села Малошуйка, Онежский р-н Архангельской обл.; Шуерецкое, Беломорский р-н Архангельской обл.; Нёнокса, Северодвинский р-н Архангельской обл. I, Б, 1, а - села Нижмозеро, Северодвинский р-н Архангельской обл.; Суланда. Шенкурский р-н Архангельской обл.; Поча, Тарногский р-н Вологодской обл.; дер. Пелюгино, Плесецкий р-н Архангельской обл. I, В, 1, б - села Подпорожье, Онежский р-н Архангельской обл.; Юрома, Мезенский р-н Архангельской обл.; Большой Посад (Кеврола), Пинежский р-н Архангельской обл.; Пиринемь, Пинежский р-н Архангельской обл.; Чекуево, Онежский р-н Архангельской обл. I, Б, 2, а - сёла Порженское, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Гимрека, Подпорожский р-н Ленинградской обл.; деревни Маселга и Гужово, Каргопольский р-н Архангельской обл. I, Б, 2, б - село Кондопога, Кондопожский р-н КАССР; деревни Малое Лижмозеро, Кондопожский р-н КАССР; Усть-Яндома, Медвежьегорский р-н КАССР. II, а - села Согинцы, Подпорожский р-н Ленинградской обл.; Шуя, Прионежский р-н КАССР; Астафьево, Каргопольский р-н Архангельской обл. II, б - села Бережная Дуброва, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Пияла, Онежский р-н Архангельской обл.; Чухчерьма, Холмогорский р-н Архангельской обл. III - село Вершинино, Плесецкий р-н Архангельской обл.; дер. Большое Лижмозеро, Кондопожский р-н КАССР. IV, А, а - деревни Горбачиха и Тырышкино, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Новинка и Пертисельга, Олонецкий р-н КАССР; Зехново-Спицино, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Минино-Ершово, Плесецкий р-н Архангельской обл. IV, А, б - село Варзуга, Кировский р-н Мурманской обл. IV, Б, а - село Ошевенское, Каргопольский р-н Архангельской обл. IV, Б. б - б. Кижский погост, Медвежьегорский р-н КАССР [107, с. 40-41, табл. 2].
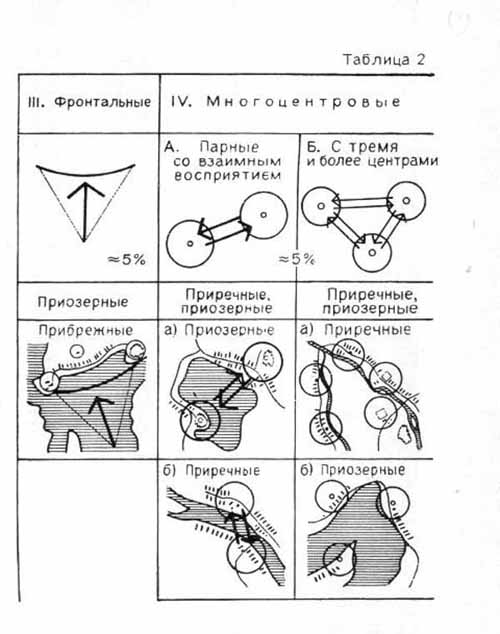
Рисунок 2.10 - Таблица 2. I, A, 1, a - села Верховье (Верхний Мудьюг), Онежский р-н Архангельской обл., Ратонаволок, Емецкий р-н Архангельской обл., Кулига Дракованая, Красноборский р-н Архангельской обл.; Бестужево, Октябрьский р-н Архангельской обл.; Усть-Кожа (Макарьино), Онежский р-н Архангельской обл. I, А, 1, б - села Турчасово, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Ракулы, Холмогорский р-н Архангельской обл.; Заостровье, Березниковский р-н Архангельской обл.; Конецдворье, Приморский р-н Архангельской обл. I, А, 2, а - села Лядины, Каргопольский р-н Архангельской обл.; Вёгоруксы, Медвежьегорский р-н KACСP; Типиницы, Медвежьегорский р-н КАССР; Щелейки, Подпорожский р-н Ленинградской обл. I, А, 2, б - села Колодозеро, Пудожский р-н КАССР; Яндомозеро, Медвежьегорский р-н КАССР; Почозеро (Филипповское), Плесецкий р-н Архангельской обл. I, А. 2, в - деревни Семеново, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Глазово, Плесецкий р-н Ар-хангельской обл. I, А, 2, г - б. Кижский погост, Медвежьегорский р-н КАССР; б. Водлозерско-Ильинский погост, Пудожский р-н КАССР; село Лычный Остров, Кондопожский р-н КАССР. I, А, 3, а - села Ковда, Кандалакшский р-н Мурманской обл.; Пурнема, Онежский р-н Архангельской обл.; Кандалакша, Кандалакшский р-н Мурманской обл. I, А, 3, б - села Малошуйка, Онежский р-н Архангельской обл.; Шуерецкое, Беломорский р-н Архангельской обл.; Нёнокса, Северодвинский р-н Архангельской обл. I, Б, 1, а - села Нижмозеро, Северодвинский р-н Архангельской обл.; Суланда. Шенкурский р-н Архангельской обл.; Поча, Тарногский р-н Вологодской обл.; дер. Пелюгино, Плесецкий р-н Архангельской обл. I, В, 1, б - села Подпорожье, Онежский р-н Архангельской обл.; Юрома, Мезенский р-н Архангельской обл.; Большой Посад (Кеврола), Пинежский р-н Архангельской обл.; Пиринемь, Пинежский р-н Архангельской обл.; Чекуево, Онежский р-н Архангельской обл. I, Б, 2, а - сёла Порженское, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Гимрека, Подпорожский р-н Ленинградской обл.; деревни Маселга и Гужово, Каргопольский р-н Архангельской обл. I, Б, 2, б - село Кондопога, Кондопожский р-н КАССР; деревни Малое Лижмозеро, Кондопожский р-н КАССР; Усть-Яндома, Медвежьегорский р-н КАССР. II, а - села Согинцы, Подпорожский р-н Ленинградской обл.; Шуя, Прионежский р-н КАССР; Астафьево, Каргопольский р-н Архангельской обл. II, б - села Бережная Дуброва, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Пияла, Онежский р-н Архангельской обл.; Чухчерьма, Холмогорский р-н Архангельской обл. III - село Вершинино, Плесецкий р-н Архангельской обл.; дер. Большое Лижмозеро, Кондопожский р-н КАССР. IV, А, а - деревни Горбачиха и Тырышкино, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Новинка и Пертисельга, Олонецкий р-н КАССР; Зехново-Спицино, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Минино-Ершово, Плесецкий р-н Архангельской обл. IV, А, б - село Варзуга, Кировский р-н Мурманской обл. IV, Б, а - село Ошевенское, Каргопольский р-н Архангельской обл. IV, Б. б - б. Кижский погост, Медвежьегорский р-н КАССР [107, с. 40-41, табл. 2].
«Рассмотрим примеры селений в каждом типе и виде композиций, начав с центрических. Селения или их гнезда, организованные в выбранной природной ситуации так, что они воспринимаются практически со всех направлений, отнесены к центрическим композициям с круговым восприятием. Этот прием наиболее распространен в природно-географических условиях русского Севера и часто положен в основу организации приречных, приозерных и приморских селений. Наибольшее количество селений русского Севера (около 40%) было основано на берегах рек, по которым шли торговые пути. Обследование выявило определенные особенности композиций селений, сложившихся по берегам больших или малых рек.
Как пример приречного селения при малой реке рассмотрим село Верховье (Верхний Мудьюг) Онежского района Архангельской области. Селения бывшего Верхнемудьюгского прихода формировались в крутой излучине среднего течения реки Мудьюги - правого притока реки Онеги, освоенного, видимо, в период заселения Онежского бассейна. Со временем, после обмеления когда-то судоходной реки Мудьюги, село Верховье оказалось отрезанным от водных путей и долго оставалось неисследованным. В этом кроется причина того, что Верховье хорошо сохранилось в отличие от группы селений Нижний Мудьюг (Грихново) у селения реки с Онегой* (примечание – * Село Верховье обследовано и обмерено автором в 1972 году)».
Характерная особенность селений при малых реках - размещение деревень, составляющих единую группу, на обоих берегах. Село Верховье состоит из трех деревень. Две из них - наиболее древние: Ряховская - на левом берегу, носящая следы свободной планировки (здесь зафиксированы наиболее старые дома и амбары), и Митинская с прибрежно-рядовой формой планировки - на правом берегу.
Позднее вдоль дороги на Нижний Мудьюг сложилась деревня Шутова уже с уличной планировкой. К концу XIX в. село насчитывало 128 дворов с населением 778 человек.
Важнейший компонент любого селения - его общественный центр. В крупных селениях эту роль выполнял храмовый комплекс. От выбора места для его размещения во многом зависели и общая композиция селения, и его восприятие с основных внешних направлений. Здесь, в Верховье, храмовый комплекс был размещен на полуострове, образованном крутой излучиной реки, так, что все три его элемента (шатровая Входоиерусалимская церковь 1754 г., пятиглавая Тихвинская церковь XVIII в. и колокольня 1787 г.)* хорошо видны со всех сторон: с верхнего и нижнего плесов реки и с двух дорог к селу (с запада и юго-востока). Хорошему восприятию способствует и умелое взаимное размещение сооружений ансамбля**. Небольшая ширина реки и замкнутый характер окружающего пространства сказались здесь и на соразмерно небольших высотах построек храмового ансамбля (до 28 м.). Таким образом, природные условия долины относительно небольшой реки задали и соответствующий масштаб центрической архитектурно-пространственной композиции села (примечания - * Все постройки обшиты тесом при ремонте 1892 г. Тогда же шатер колокольни заменен на купол со шпилем (ИАК-39, СПб., 1911). Планы церквей обмерены экспедицией МРА АА СССР в 1946 г. По рекомендации автора ансамбль обмерен студентами ГИСИ под руководством архит. С.Л. Агафонова в 1973 г.; **В настоящее время восприятие ансамбля нарушено разросшимися за последние десятилетия деревьями)» (рисунок 2.11) [107, с. 41-42, рис. 11].
Важнейший компонент любого селения - его общественный центр. В крупных селениях эту роль выполнял храмовый комплекс. От выбора места для его размещения во многом зависели и общая композиция селения, и его восприятие с основных внешних направлений. Здесь, в Верховье, храмовый комплекс был размещен на полуострове, образованном крутой излучиной реки, так, что все три его элемента (шатровая Входоиерусалимская церковь 1754 г., пятиглавая Тихвинская церковь 18 в. и колокольня 1787 г.) *(примечание * - Все постройки обшиты тесом при ремонте 1892 г. Тогда же шатер колокольни заменен на купол со шпилем (ИАК-39. СПб., 1911). Планы церквей обмерены экспедицией МРА АА СССР в 1946 г. По рекомендации автора ансамбль обмерен студентами ГИСИ под руководством архит. С. Л. Агафонова в 1973 г.) хорошо видны со всех сторон: с верхнего и нижнего плёсов реки и с двух дорог к селу (с запада и юго-востока). Хорошему восприятию способствует и умелое взаимное размещение сооружений ансамбля ** (примечание ** - В настоящее время восприятие ансамбля нарушено разросшимися за последние десятилетия деревьями.). Небольшая ширина реки и замкнутый характер окружающего пространства сказались здесь и на соразмерно небольших высотах построек храмового ансамбля (до 28 м). Таким образом, природные условия долины относительно небольшой реки задали и соответствующий масштаб центрической архитектурно-пространственной композиции села.
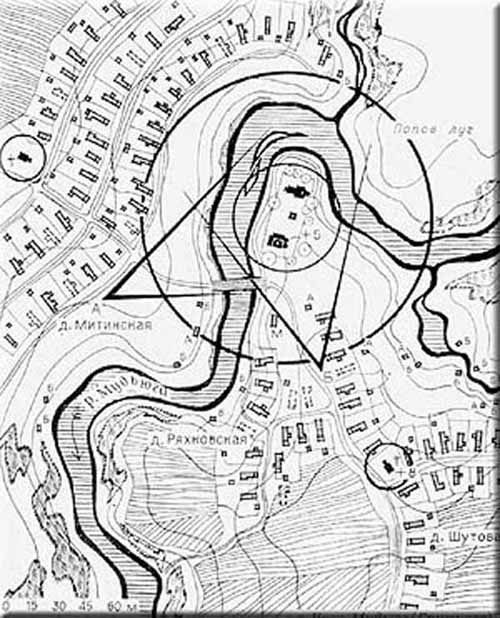
Рисунок 2.11 - Село Верховье (В. Мудьюг). Онежский район Архангельской области. План и панорама по А и Б. [107, с. 42, рис. 11].
Появление теплой церкви и позднее колокольни, обслуживавшей обе церкви - теплую и холодную, привело к образованию традиционной для русского погоста триады, намного увеличившей композиционные возможности народных зодчих. Расположение трех построек по диагонали друг к другу - естественное развитие двухчастной диагональной композиции (рис. 101). Колокольня, как бы связывая воедино оба храма, ставилась между ними так, например, как это сделано в селах Нёноксе (Северодвинский район Архангельской области), Верховье (Верхнем Мудьюге) и Усть-Коже (Макарьино) Онежского района (рис. 101, 1, 2 и 3). И величина сдвижки построек относительно друг друга, и ее направление в каждом случае были сугубо индивидуальны и зависели от ориентации, рельефа и восприятия общественного центра села с основных направлений» (рисунки 2.12-2.13) [107, с. 130-132, рис. 101, с. 142-143, рис. 107].
Интерес также представляют сведения из работы краеведа Г.Б. Дерягина «Окрестности Онеги», опубликованной на портале «Sudmed-nsmu.narod.ru» [25]. В своей работе ее автор писал, что «напротив острова, по которому мы путешествуем, по правому берегу реки имеется устье речки Мудьюга, где был основан Нижнемудьюжский приход. Он включал в себя 7 деревень, имел к концу XIX века 82 двора, 843 жителей. В самом большом селе Грихновское было два несохранившихся храма XIX века - Онуфрия Великого и Архистратига Божия Михаила» [25].
«В верхнем течении реки Мудьюга, совсем близко от Сырьи был Верхнемудьюжский приход. Состоял он из двух деревень - Ряховская и Митинская (село Верховье, или Верхняя Мудьюга), имел к концу XIX века 128 дворов, 778 жителей.
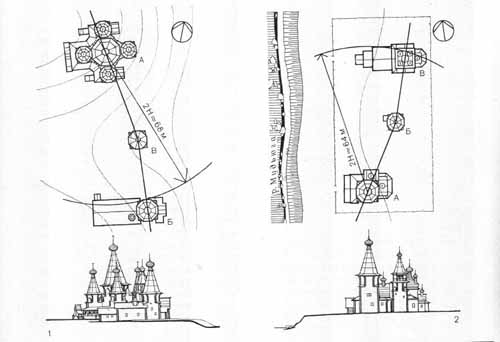
Рисунок 2.12 - Композиционный прием диагонального взаиморасположения построек храмового комплекса при грех компонентах (диагональная система) 1 - село Нёнокса, Северодвинский район Архангельской области. Храмовый ансамбль. План и южный фасад. А - Троицкая церковь, 1729 г.; Б - Никольская церковь, 1763 г.; В - колокольня, 1834 г; 2 - село Верховье (В. Мудьюг), Онежский район Архангельской области. Храмовый ансамбль. План и южный фасад. А - церковь Входоиерусалимская, 1754 г.; Б - колокольня, 1787 г.; В - церковь Тихвинская, 1865 г.; 3 - село Усть-Кожа (Макарьино). Онежский район Архангельской области. Храмовый ансамбль. План и западный фасад. А - церковь Климента, 1695 г.; Б - церковь Крестовоздвиженская, 1769 г.; В - колокольня, XVII-XVIII вв.; 4 - село Филипповское на Почозере, Плесецкий район Архангельской области. Храмовый ансамбль. Реконструкция. План и восточный фасад. А - церковь Обретения Главы И. Предтечи, 1700 г.; Б - церковь Происхождения Честных Древ, 1700 г.; В - колокольня, XVIII в. [107, с. 132, рис. 101].

Рисунок 2.12 - Композиционный прием диагонального взаиморасположения построек храмового комплекса при грех компонентах (диагональная система) 1 - село Нёнокса, Северодвинский район Архангельской области. Храмовый ансамбль. План и южный фасад. А - Троицкая церковь, 1729 г.; Б - Никольская церковь, 1763 г.; В - колокольня, 1834 г; 2 - село Верховье (В. Мудьюг), Онежский район Архангельской области. Храмовый ансамбль. План и южный фасад. А - церковь Входоиерусалимская, 1754 г.; Б - колокольня, 1787 г.; В - церковь Тихвинская, 1865 г.; 3 - село Усть-Кожа (Макарьино). Онежский район Архангельской области. Храмовый ансамбль. План и западный фасад. А - церковь Климента, 1695 г.; Б - церковь Крестовоздвиженская, 1769 г.; В - колокольня, XVII-XVIII вв.; 4 - село Филипповское на Почозере, Плесецкий район Архангельской области. Храмовый ансамбль. Реконструкция. План и восточный фасад. А - церковь Обретения Главы И. Предтечи, 1700 г.; Б - церковь Происхождения Честных Древ, 1700 г.; В - колокольня, XVIII в. [107, с. 132, рис. 101].
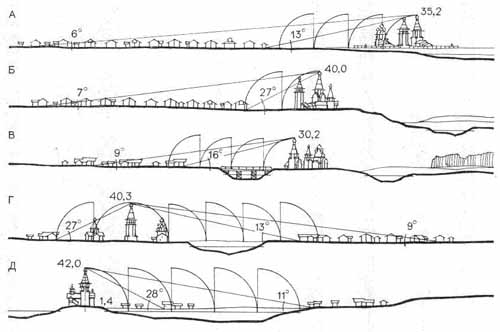
Рисунок 2.13 - Графический анализ взаиморасположения общественного центра и жилых домов в селениях. А-Д - селения, где жилые дома и общественный центр расположены в одном уровне: А - Лядины, Каргопольский район Архангельской области; Б - Заостровье, Березниковский район Архангельской области; В - Верховье (В. Мудьюг), Онежский район Архангельской области; Г - Шуя, Прионежский район КАССР; Д - Кондопога, Кондопожский район КАССР; К-О - селения, где общественный центр расположен на возвышенности: К - Шуерецкое, Беломорский район КАССР; Л - Подпорожье, Онежский район Архангельской области; М - Малошуйка, Онежский район Архангельской области; Н - Пелюгино (Федеровская), Плесецкий район Архангельской области; О - Маселга, Каргопольский район Архангельской области [107, с. 142-143, рис. 107].
Далеко через просеку автодороги виден классический онежский тройник в селе Верховье. Поистине замечательна шатровая Входоиерусалимская церковь, освященная 15 апреля 1758 года, с приделом Трех святителей вселенских: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Последний придел освящен в 1754 году. Поражает стройный, изящно прочерченный силуэт церкви. Как просто и внушительно все выполнено! Здесь то изящество и простота линий, которые безошибочно свидетельствуют о древности. Крутую линию грани шатра продолжает шейка, которая имеет здесь форму усеченного конуса. Вся церковь, вместе с шатром, шейкой и главой, срублена из горизонтально сложенных бревен, без единого гвоздя.
К этому храму в XVIII веке был пристроен придел без каких-либо искажений силуэта здания. Эту задачу блестяще решил местный крестьянин Даниил Пантелеев. Он поставил с северной стороны небольшой, перекрытый широкой бочкой, прируб, по высоте примерно разный высоте четверика. Соответственно каждому престолу в церкви должна быть апсида. Здесь их получилось две, они сочлененные, граненые. Каждая апсида покрыта бочкой, и обе бочки объединяются третьей бочкой с единой главкой, вырастающей из небольшого четверичка на кровле. В храм ведет единственное на Онеге сохранившееся высокое крыльцо на два всхода. Крыльцо поставлено так, что линии скатов кровли объединяют храм и придел, придают цельность западному фасаду. Под крыльцом имеются широкие ворота, ведущие в подклет, в них свободно может въехать телега» (рисунки 2.14-2.16) [25, фото].

Рисунок 2.14 - Храмовый комплекс на берегу реки Мудьюга в селе Верховье. Фото автора (1988 г.) [25, фото].

Рисунок 2.15 - Входоиерусалимский храм в с. Верховье (освящен 15 апреля 1758 г.) (фото Г.Б. Дерягина, 1988 г.) [25, фото].

Рисунок 2.16 - Церковь Тихвинской Богоматери в с. Верховье (освящена 17 декабря 1865 г.) (фото Г.Б. Дерягина, 1988 г.) [25, фото].
«Памятник прекрасно и живописно смотрится с разных сторон. Он стоит на берегу реки Мудьюга, которую можно перейти по висячему мосту, и охватить тройник взором целиком с противоположного берега. Вторая церковь тройника однопрестольная, зимняя, освящена в честь иконы Тихвинской Богоматери 17 декабря 1865 года. Она кубоватая, с трапезной, притвором, крытым крыльцом, пятиглавая. Главки как бы вырастают из плавных линий перекрытия храма, кажутся легкими и веселыми. Возможно, что здание копирует формы стоявшей здесь прежде более древней церкви, тем не менее, на севере нет ни одной церкви, похожей на другую, не смотря на общие принципы архитектурного решения. Каждая церковь поставлена по-своему, настолько неповторима в своем облике, что красота ее затмевает красоту предыдущей.
Третье здание ансамбля - колокольня XVIII века, представляющая собой восьмерик (восьмигранный сруб) на четверике (четырехгранном срубе), стоящая между храмами. На колокольне было четыре бронзовых с серебром колокола, приобретенные крестьянами Шерстобоевым Козьмой Степановичем и Барышевым Арсением Ивановичем. Колокольня типична для Поонежья. Изначально она была шатровой, как и многие другие, но в XIX веке церковное начальство повсеместно повелело заменить «языческие» шатры на купола со шпилем. С моей, субъективной точки зрения, красоты поубавилось, произошло какое-то «приземление» чувств. Тем не менее, когда я в качестве экскурсовода возил туда туристов в конце 1980-х годов, некоторые, потрясенные красотой, даже плакали, особенно когда видели, что внутри Входоиерусалимской церкви местные жители устроили загон для овец» (рисунок 2.17) [25, фото].

Рисунок 2.17 - Колокольня XVIII века в с. Верховье (фото Г.Б. Дерягина, 1988 г.) [25, фото].
«Хотелось говорить об этом великолепном тройнике, как о существующем. Он до сих пор стоит перед моим взором во всей его красе, но 10 августа 1997 г. грандиозный памятник деревянного зодчества в селе Верховье был сожжён после праздничной службы в только что восстановленной Тихвинской церкви кем-то из основательно деградировавших местных жителей, по пьяни. В местной газете по этому поводу были какие-то склочные переругивания, но виновного, как всегда, не нашли» [25].
Интерес также представляют материалы из рукописи краеведа А.Ф. Толстоногова, опубликованные на портале «Оnegaonline.ru» в разделе «Библиотека» (адрес - http://www.onegaonline.ru/biblio/index.asp?kod=2&name=Толстоногов_Алексей_Федорович) (рисунок 2.18) [82, фото].

Рисунок 2.18 - д. Верховье (дд. Митинская - Митенская - с. Митенское и Ряхковская - Ряхновская - Верховье - Верголив - Рядновская - Рядковская - с. Ряхновское) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
«По данным Государственного архива (сведения Онежских краеведов) деревня Верховье основана в XV веке переселенцем Дмитрием Степановым и названа по его имени Митинской. Вторая деревня на другом берегу реки названа Ряхковской. В те далекие времена прежде чем выбрать место для поселения приходилось думать, а как защитить поля и луга от диких животных, а скот от хищного зверя. И селились на границе ручья, реки, озера, на мысу. К лесной стороне лес валили, землю готовили под поля и покосы.
В ХVI вехе деревня Митинская и Ряхковская составляли 12 дворов, 14 - тягловых крестьян. В конце XVI века вскоре после основания Архангельска и центра Беломорского торга, проложена зимняя дорога Архангельск-Чекуево. Дорога связывала западные районы Каргополя, Поморье, Карелию. Первая станция как называли ее «выпряжай» была деревня Верховская (Верховье). В XVI веке сложилась многодворная сельская община прибывших из разных отдаленных селений. По принципу захвата, они засекали пустующие земли особенно по берегам речек в верховьях Мудьюги. Симановы заняли Лилисару, Конововы - Верхнюю Мудьюгу, Титовы - Некрасово и Бучерово, Шерстобоевы - Рименьгу, Нефедовы - Вычеру. Закрепив заимки билетами на 99 лет.
В 1730 году в Верховье построены две деревянные церкви и между ними высокая колокольня. В это время в Верховье на обеих сторонах реки жило много крестьян. Церковь строили крестьяне под руководством местного крестьянина Пальтихина. В деревне жили умные, пытливые люди. Онежский краевед П. Носков пишет, что в старых записях об урожаях в Онежском уезде значится: Савва Артамонов и Дмитрий Кононов при среднем удобрении земли навозом снимали со 22 центнере с гектара, а Титовы при обильном удобрении снимали по двести пудов с десятины в теплое лето.
Верховье быстро росло, в конце XIX века в нем было около 180 дворов. По соседству с деревней Верховье существовал Сырьинский монастырь, основанный Новгородским священником Кириаком (Кириллом). История Верховья как и Сырьинского монастыря не имеет письменных свидетельств о своем прошлом. В деревне живут русские люди, потомки древних новгородцев: трудолюбивые, человечные, доброжелательные. Живут здесь постоянно с незапамятных времен. Приезжих за обозримое время старожилы деревни не помнят. Некоторые жители имеют фамилии Кононовы, Артамоновы, упоминавшиеся в архивных документах XVII века.
Занимаются крестьяне хлебопашеством, скотоводством, овощеводством, а кроме работы в своем хозяйстве с XIX века отходничеством, в основном, связанным с заготовкой, транспортировкой и обработкой леса. В нелегких условиях жили тогда люди, работая в своем хозяйстве, в прошлые годы крестьянин испытывал лишения, невзгоды и один на один сражался о беспощадными силами природы, боролся с голодом. Ни какой помощи ждать было неоткуда, надежда только на себя. Борьба на выживание. Жить в старину было трудно.
Какой стала деревня? Как изменилась со времени основания ее Дмитрием Степановым? Современная деревня - это большая группа (скопление) деревянных домов, в основном, двухэтажных, хорошо спланированных и построенных. Деревня производит впечатление не богатой, но и не бедной. Большого достатка в хозяйствах не видно. В прошлые века в деревне были и курные избы. В настоящее время Верховье состоит из двух деревень Митинской и Ряхковской (происхождение названия этой деревни не известно). Внешне они выглядят симпатично, как и вообще северные деревни, около домов чистота и порядок. На правом берегу реки Мудьюги деревня разрослась, в ней около 100 домов, расположена на склоне небольшого холма Пальник, сбегающего краем к реке Мудьюге. Все дома фасадом (окнами) обращены в сторону реки. В деревне один спуск к реке, где крутизна берега несколько уменьшена.
Деревня Ряхковская расположена на левом берегу реки. Река Мудьюга, разделяющая эти деревня, невелика 25-30 до 35 м ширина и не глубока в среднем 1,5 метра, но с высокими и очень крутыми берегами до 6 метров высоты, густо поросшие растительностью. На протяжении всей реки нет места, где бы чело век, мог свободно перейти реку пешком или переехать на лошади с одного берега на другой. Поэтому жители деревни еще с незапамятных времен разделили всю землю Верховья между деревнями. Все леса, поля, луга по правой стороне реки принадлежат деревне Митинской. Все леса, поля, луга по левой стороне реки принадлежат деревне Ряхковской. Этот раздел ни в старину, ни в последующие века и до настоящего времени ни каких недоразумений не вызывал. Так как переехать с одной стороны реки на другую было не возможно. Для переезда через Мудьюгу на всем протяжении имеется только два моста. Один в деревне Верховье и один в деревне Грихново, где сельский совет.
Особенность деревни Митинской с трех сторон ее окружают болота. С северо-восточной стороны деревни протекает и впадает в реку Мудьюгу полноводный ручей Падун. Он и сейчас является границей деревни. Болота, окружающие деревню, не трясина, а земля, периодически заливаемая водой. Через все эти болота проложены накатные мосты. Дорога вымощена не толстыми бревнами в ширину дороги, а по краям укреплена жердями, чтобы бревна не разнесло водой. Таких дорог через болота три, одна ведет в Пикостровский лес, другая - в Малестровский лес, третья - в Шалошный, каждая из дорог длиной около километра.
По мостам жители деревни гоняли скот в лес на пастбище, ездили в луга, поля на работу, ходили в лес рубить дрова, на озеро ловить рыбу, собирать в лесу ягоды, грибы и по другим деревенским делам. Но мосты надо было ремонтировать, и деревенское общество разделило мосты по душам. На каждую душу определенное количество сажен. Все крестьяне должны были следить за исправностью мостов на отведенном каждому участке. Но безлошадные и беднейшие не имели возможности ремонтировать мосты своевременно, и вся деревня от этого испытывала большие трудности.
Такое же положение и с осеками. В деревне хорошие пастбища, но они в лесу, а лесные пастбища надо огораживать, чтобы коровы не разошлись и не ушли куда не надо. Огораживаются пастбища в лесу осеками. Это подобие изгороди, завалы из небольших деревьев и кустов в определенном направлении как изгороди. Коровы, дойдя до осека, поворачивают. Осеки тоже были распределены по душам: определенное количество сажен на душу. Но, бедняки в безлошадные и здесь не могли ремонтировать осеки во время, и от этого страдала вся деревня. Деревня Митинская имела хорошие луга вверх по Мудьюге за 20 км (Бучерово) и другие отделенные места за 25 км и эта отдаленность сенокосов тоже была неудобной для жителей деревни Митинской.
О деревне Ряхковской. Расположена на левом берегу реки. Так же симпатичная своей дружной постройкой, в большинстве двухэтажных домов. Здесь домов меньше, чем в Митинской, 95-96, меньше и населения. Проселочные дороги здесь относительно не плохи. Кругом деревни луга, за лугами болота, а за болотами лес. Деревня Ряхковская расположена от деревни Митинской на расстоянии метров 400-450, по мосту через реку Мудьюгу. Церкви, магазин, школа находятся на левом берегу.
Верховье до революции. Деревня была хорошо известна в Онежском уезде Архангельской губернии. В ней было более 150 домов и несколько сот жителей. Деревня была не богата. Земли у крестьян было мало, и родила она плохо. Как и раньше крестьяне занимались хлебопашеством, скотоводством, овощеводством. Богатых людей, кулаков, пользующихся наемным трудом, в деревне не было. Были зажиточные, у кого было больше земли (чищенины, припашей). Чищенины - земли очищенные от леса и кустов, припаши - это распаханные земли. Крестьяне бедняки и середняки уходили на отхожие заработки. Зажиточные обеспечивали себя продуктами и деньгами и из деревни не отлучались.
Крестьяне и крестьянки ходили в одежде из домотканого материала - портна. Это была серая, сермяжная одежда. Все предметы повседневного пользования были деревянные или берестяные или плетеные или из лучины или прутьев. Посуда глиняная, но была и фарфоровая.
Дороги шли с горы на гору, ездили на дровнях круглый год. Зимой деревня, как и в прошлые века, была занесена снегом. По установившейся дороге мужики ездили в лес за дровами (заготовленными весной), за сеном. Заготовляли различный лесной материал для хозяйственных нужд, для изготовления лучины, для освещения избы в зимнее время. Некоторые ездили в извоз заработать необходимые в хозяйстве деньги. Зимой при лучине женщины пряли пряжу из льна и шерсти, вязали носимые зимой шерстяные вещи, рукавички, варежки, чулки и др. Ухаживали за скотом. Световой день длился 2-3 часа.
Когда женщина доила корову, то горящую лучину вставляла в щель стены хлева. Вообще загорания были, но пожары были не часто. За 17 лет моего проживания в деревне сгорел только один дом. Средствами пожаротушения были только ведра с водой, топоры, лестницы. На пожар звонили в колокол, и народ сбегался со всей деревни. Люди в деревне были богомольные, по воскресеньям ходили в церковь. Книг, газет не было. Грамотных людей, умеющих читать, было очень мало. Общественная жизнь ограничивалась посещением церкви. Жизнь шла не спеша. Люди соблюдали все посты, праздники.
Однажды, по рассказам старожилов деревни, примерно в 1910 году верховцы в религиозный праздник «Казанской божьей матери» уехали на сенокос на дальние покосы на Бучерово. В этот день в деревне поднялась гроза, гром и молния и в деревне Ряхковской возник пожар; сгорело около 10 домов в центре деревни. Был ветер, огонь очень быстро распространился, за 5 минут от дома к дому. Головешки из центра деревни летели даже в Шутово. Пожар возник в доме Ф. Барышева. Молния ударила в косу горбушу, висевшую под крышей. Искры упали в стоявший на сарае бурак с сеном, и сено загорелось. Верховцы приняли это как наказание божье и поэтому случаю служили молебен, а сенокос после пожара стали начинать позднее этого праздника. Праздник «Казанской божьей матери» решили праздновать как престольный (главный).
Весной, как только стает снег и появится зелень (трава), на пастбища на обеих сторонах деревни выходили большие стада коров и овец. Суровы и бесконечны длинные зимние ночи. В хлевах тепло, но темно. Здесь только одно маленькое в две ладони окошечко света. Выход скота на пастбище это большой праздник для людей. Скот же уставший в хлевах за долгую зиму буквально рвался на волю. Всюду было слышно бесперебойное громкое мычание коров, блеяние овец. Каждое животное выражало свою радость. Это была встреча животных с обновленной природой. Пастбища были богатые как в деревне Митинской, так и в деревне Ряхковской, но находились они в лесу.
В старину леса были дремучие, и в них было не мало зверей. Поэтому перед выходом стад скота на пастбища как в деревне Митинской, так и в деревне Ряхковской устраивали молебны, богослужения, где просили Святого Николу - защитника животных, оградить их от зверя. Но звери все же беспокоили стада. В старину больше, а до революции меньше. Старожилы деревни рассказывают (факт) теперь уже легенда.
Когда в деревне Митинской у крестьянина Плешкова медведь в лесу убил корову (в старину и до революции крестьяне никогда не оставляли без последствий разбой зверя) и крестьянин Плешков и охотник Шерстобоев пошли в лес убить медведя. По дороге в лесу медведь вывернулся из-за укрытия и когда крестьяне обернулись, то медведь уже стоял перед ними на задних лапах.
Плешков успел выхватить нож. Шерстобаев выхватил из-за пояса топор. Плешков метнулся на медведя и всадил ему в пасть нож с рукой, Медведь упал, подмял под себя Плешкова, мял его и царапал огромными когтями. Шерстобоев был на верху медведя. Плешков успел крикнуть, чтобы он бил обухом, для того, чтобы шкуру не попортить. Но медведь оказался могучим зверем. Битва была жестокой и молниеносной. Плешков оказался наверху, Шерстобоев под медведем. Медведь был убит. Некоторые раны Плешкова оказались глубокими и болели. В последствии Пятаков скажет, что в рукопашную на медведя больше не пойдет.
Материально люди деревни жили далеко не одинаково, была большая разница между зажиточными крестьянами, середняками и бедняками (безлошадными и вдовами). Зажиточных было немного, они выделялись среди других жителей наличием земли (см. выше). Земля эта передавалась по наследству как собственность (личная).
В старину, в далекие времена, когда заселяли земли Верховья, некоторые крестьяне расчищали земли от леса, кустов, а затем оформляли это документами как собственность. Делалось это и в последующие века, пока имелись земли, пригодные для использования. Эти земли не входили в общий земельный фонд деревни, подлежащий разделу. За счет этой земли крестьянин дополнительно получал сено и на полях выращивал сельскохозяйственные культуры - хлеб, также содержал дополнительное количество скота.
Зажиточные имели три-четыре коровы, две лошади, 15-16 овец и много земель. Средний крестьянин имел две коровы, одну лошадь, 9-10 овец. Некоторые из них имели определенное количество чищенины. Крестьянин-бедняк или вдова в хозяйстве имели одну корову, 5-6 овец. Крестьяне бедняки это безлошадные. Они хотели бы иметь лошадь, но не имели возможности прокормить ее. В прошлом бедняк мог быть и крестьянин, у которого в семье много детей женского пола, так как на женщину земли не выделяли.
Все крестьяне обрабатывали свою землю собственными силами своей семьей. Все трудились в поте лица. И здесь не было разницы между зажиточными и середняками. Однако наемный труд был в другой форме. Лошадь в деревне требуется постоянно, и бедняк или вдова вынуждены обращаться за лошадью или к зажиточному крестьянину или к соседу. Отказа в лошади не было (если она была свободна), но просителю говорили: Возьми лошадь, но поможешь в работе: убирать сено, молотить или другую работу, конечно, в течение дня, а бедняк свою работу вынужден был делать ночью.
Вторая группа зажиточных - это крестьяне, имеющие доходы от несельскохозяйственной деятельности. В деревне были две водяные мельницы Шерстобоева - Артемьевка и Леонтьева - Шалошка. Они мололи зерно крестьянам на своих мельницах за определенную плату. Крестьянин Борисов имел небольшую кожевню и выделывал кожи для крестьян. Эти люди тоже не уходили из деревни на отхожие заработки.
Что говорят верховцы о жизни в старину? П.Н. Верховский: «В старину и до революции люди жили трудно. Находились в постоянной работе с утра до вечера. Жили в нужде, лишениях, в борьбе с природой. Светлых дней было мало. Особенно тяжело было вдовам, беднякам-безлошадникам, забитым нуждой. Человек должен был работать постоянно, непрерывно в своем хозяйстве, в извозе, на отхожих заработках, на лесозаготовках, сплаве при любой погоде в любых условиях. Особенно страдали от этого бедняки, так как они не всегда имели достаточно хорошую одежду и обувь и от холода и сырости болели».
П.Д. Борисова: «Деревня жила трудовой, свободной жизнью. Но всеми делами верховодили богатые мужики. Конечно в своих интересах. Например, при разделе общего земельного фонда деревни мужику целое поле, но оставались и остатки площади или небольшой кусок земли худшего качества и это предназначалось вдовам, беднякам, а некоторые вдовы возразить не смеют». «Мужики богаты, что быки рогаты». Прасковья Дмитриевна с уважением, даже с некоторой гордостью говорила о женщинах-верховках, которые несмотря на постоянную занятость в работе, кто бы она не была, всегда содержит избу и все на дворе в чистоте и порядке. В семье порядок, завтрак, обед, ужин - все во время.
Т.П. Рогалева: «Народ в деревне бойкий, трудолюбивый, человечный. Всю землю каждый крестьянин отрабатывал своей семьей. Но как не стремится крестьянин середняк обеспечить свою семью результатами труда своего хозяйства, это не удавалось и большинство крестьян деревни в прошлые годы уходили на заработки в другие губернии, города».
О молодежи до революции. Татьяна Ивановна рассказала: «На вечеринки собирались каждый день осенью и зимой, кроме субботы, когда все верховцы топили бани и мылись. На вечеринках было весело и интересно, продолжались они с 8 часов вечера до 12 часов ночи. Некоторые девушки носили шерстяные или тканевые юбки, сарафаны одного цвета красные, голубые, зеленые и в крупную клетку. На вечеринках пели песни, частушки, ходили в кадриль, рассказывали сказки, бухтинки. Пьяных не было, только иногда были выпивши, но редко. На вечеринках было весело, дружно».
Крестьянская семья в старину. Крысанова А.А. рассказала: «Семьи в старину и до революции были большие: детей до 8 человек. Старшие дети женились и жили в одном и том же доме. В семье было по 16-18 человек, иногда в одной или двух избах. Молодожены вешали около своей кровати занавеску (полог). Летом спали на полу или на сеновале, в сарае. В семье всем находилось дело, все занимались полезным трудом. Женщина-хозайка в семье пекла хлеб на всю семью. Готовила завтрак, обед, ужин, ткала холст, работала в поле. Воспитывали детей, а точнее, - говорит Анастасия Андреевна, - дети сами воспитывались. Ребенок воспитывался лежа в зыбке - люльке), с воткнутой во рту тряпочкой с разжеванным хлебом, а когда подрастет, то во дворе, на улице набирался информации от своих сверстников, так как родители в большинстве сами были совершенно неграмотны, а женщины с момента рождения и до старости из Деревни никуда не выезжали. Труд женщины в большой крестьянской семье был напряженным.
На 1914 год в деревне жило 901 человек, в том числе мужчин 414 человек, женщин 487 человек. По данным церкви, это была большая оживленная деревня» [82].
Необходимо особо отметить, что на портале«Onegaonline» представлена фотография храмового комплекса в деревне Верховье (Верхний Мудьюг) на момент пожара (рисунок 2.19), сопровождаемая стихами поэта А.В. Александрова «Размышление на пепелище» [82, фото].

Рисунок 2.19 - Возгорание храмового комплекса в деревне Верховье (автор съемки неизвестен) [82, фото].
Необходимо также сказать, что на портале «Оnegaonline.ru» в разделе «Деревня Верховье» представлен достаточно развернутый набор фотографий с изображениями как существующих так и утраченных построек и сооружений [82, фото]. Следует отметь и, что сведения об ансамбле церквей в селе Верхняя Мудьюга (церковь Тихвинской иконы Богоматери и церковь Входа Господня в Иерусалим) содержатся, в частности, и в монографической работе искусствоведа Т.М. Кольцовой «Иконы Северного Поонежья» [33, с. 161, 173].
Также следует сказать, что в прошлом Верховская (Верхнемудьюжская) групповая система населенных мест ранее относилась к числу акцентированных поселений, поскольку в ней существовал храмовый комплекс, по данным краеведа А.Ф. Толстоногова возведенный в 1730 году и включающий две деревянные церкви и стоящую между ними высокую колокольню [82]. Позднее, в конце XVIII века храмовый комплекс был обновлен и в его состав вошли: шатровая летняя (холодная) Входоиерусалимская церковь с двумя престолами (главный, в честь Входа Господня в Иерусалим, освященный 15 апреля 1758 года, и придельный - в честь Трех Святителей Вселенских: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, освященный 5 февраля 1754 года), построенная, по преданию, местным крестьянином Даниилом Пантелеевым в 1751-1754 годах и обшитая тесом в 1893 году(по данным Г.П. Гунна - древняя шатровая Входиерусалимская церковь XVII века с приделом Трех святителей XVIII века; кубоватая пятиглавая (по другим источникам - шестиглавая) зимняя (теплая) однопрестольная Тихвинская церковь (в честь Тихвинской Иконы Божьей Матери, в честь иконы Тихвинской Богоматери) с трапезной, притвором и крытым крыльцом, построенная в 1783 году (по другим источникам - в XVIII веке), перестроенная в 1783 году, освященная 17 декабря 1865 года и реставрированная в 1996 году; и отдельно стоящая между церквями колокольня, представляющая собой восьмерик (восьмигранный сруб) на четверике (четырехгранном срубе), построенная в 1787 году (по другим источникам - в XVIII веке), до 1892-1893 гг. колокольня была шатровой, а затем навершие было заменено на купол со шпилем, в 1990 году колокольня была отреставрирована. Все постройки храмового комплекса в 1889 году были обнесены деревянной оградой и при ремонте в 1892 году обшиты тесом. Тогда же шатер колокольни был заменен на купол со шпилем. 10 августа 1997 года храмовый комплекс сгорел при пожаре. Следует также отметить, что в деревне ранее существовала еще и деревянная Смоленская часовня, построенная, предположительно, в XIX веке) [20, с. 119-123; 25; 33, с. 161, 173; 36; 76; 107, с. 41-42, рис. 11].(ИАК-39, СПб., 1911).
Интерес также представляют сведения, содержащиеся в электронной публикации под общим названием «Три похода по Северу (рассказ-воспоминание)», представленной на портале «Страна-наоборот» (адрес - http://www.strana-naoborot.com/3ru/3pohoda/north_trips.htm) [102]. Это «рассказ о путешествии по Архангельской области, совершенном в 1986 году в целях ознакомления с русским деревянным зодчеством» и написанный «в 2004 году как воспоминание о впечатлениях, оставивших неизгладимый след в памяти» [102].
В главе «Второй поход (1986 г.)» в разделе «Часть 10: Верхняя Мудьюга - Онега - Архангельск» автор этого рассказа писала: «Следующей нашей остановкой была Мудьюга (общее название для целой группы деревень). От пристани до деревни Верховье (километров 7), где тогда еще стоял последний онежский «тройник» из двух церквей и колокольни, шла полями хорошая грунтовая дорога. Помню огромное количество цветов в этих лугах - ромашки, колокольчики, васильки... Дорога шла то полем, то рощей, то мимо деревни. Светило солнце, пахло медом, на песке на отмелях маленькой речки Мудьюги лежали коровы. По пути запомнилась необычная деревня: в чистом поле вдруг показалась группа домов, все торцевые фасады смотрели на нас, а сами дома, расположенные одной кучкой, как бы «веером» расходились от одного центра. Хотя деревня была далеко и может быть, это был просто обман зрения» (рисунки 2.20-2.29) [102, фото].

Рисунок 2.20 - Верхняя Мудьюга (автор съемки неизвестен, 1986 г.) (http://www.strana-naoborot.com/3ru/3pohoda/trip2/pictures/part8/trip2_p8_02.htm) [102, фото].

Рисунок 2.21 - Верхняя Мудьюга (автор съемки неизвестен, 1986 г.) (http://www.strana-naoborot.com/3ru/3pohoda/trip2/pictures/part8/trip2_p8_03.htm) [102, фото].

Рисунок 2.22 - Верхняя Мудьюга (автор съемки неизвестен, 1986 г.) (http://www.strana-naoborot.com/3ru/3pohoda/trip2/pictures/part8/trip2_p8_04.htm) [102, фото].
«Церковный ансамбль в Верховье - состоял из двух церквей - шатровой Входиерусалимской (17-й в.) с приделом Трех Святителей (18-й в.), кубоватой Тихвинской церкви (1865 г.) и колокольни (18-й в.). Эти замечательные памятники сгорели 10 августа 1997 года, причина пожара не установлена» (рисунок 2.23) [102, фото].

Рисунок 2.23 - Верхняя Мудьюга (автор съемки неизвестен, 1986 г.) (http://www.strana-naoborot.com/3ru/3pohoda/trip2/pictures/part8/trip2_p8_08.htm) [102, фото].
Примечание - Подробнее о Верховье см. на сайте «Малые города России» в статье Светланы Рапенковой: http://www.towns.ru/other/mudyuga.html, а также на сайте «Онега онлайн»: http://www.onegaonline.ru/dz/arhiv/verh/index.htm. О погибающих памятниках и причинах их гибели см.статью К. Михайлова в разделе «Агенство федеральных расследований»: http://www.flb.ru/material.phtml?id=4304 (рисунки 2.24-2.25) [102, фото].

Рисунок 2.24 - Верхняя Мудьюга (автор съемки неизвестен, 1986 г.) (http://www.strana-naoborot.com/3ru/3pohoda/trip2/pictures/part8/trip2_p8_09.htm) [102, фото].

Рисунок 2.25 - Верхняя Мудьюга (автор съемки неизвестен, 1986 г.) (http://www.strana-naoborot.com/3ru/3pohoda/trip2/pictures/part8/trip2_p8_10.htm) [102, фото].
«Верхняя Мудьюга интересна также своими деревянными подвесными мостиками. Таких мостиков (наследство советского времени, когда научились делать металлические тросы достаточной длинны и прочности) - много по всему Онежскому району, но здесь они сосредоточены в одном месте в невероятном количестве. Маленькая речка Мудьюга петляет среди полей, выделывая немыслимые коленца и повороты, берега ее крутые, и эти мостики здесь - жизненная необходимость. Ходить по ним довольно страшно - они раскачиваются под ногами (можно качаться, как на качелях), и, кажется, вот-вот рухнут. (Здесь нужно сказать, что большинство этих мостиков в настоящее время - 2005 г. - не сохранилось, а те, которые сохранились, находятся в руинах и ходить по ним невозможно. Но тогда, в 1986-м, они еще были вполне прочные)» (рисунки 2.26-2.29) [102, фото].

Рисунок 2.26 - Верхняя Мудьюга (автор съемки неизвестен, 1986 г.) (http://www.strana-naoborot.com/3ru/3pohoda/trip2/pictures/part8/trip2_p8_11.htm) [102, фото].

Рисунок 2.27 - Верхняя Мудьюга (автор съемки неизвестен, 1986 г.) (http://www.strana-naoborot.com/3ru/3pohoda/trip2/pictures/part8/trip2_p8_12.htm) [102, фото].

Рисунок 2.28 - Верхняя Мудьюга (автор съемки неизвестен, 1986 г.) (http://www.strana-naoborot.com/3ru/3pohoda/trip2/pictures/part8/trip2_p8_13.htm) [102, фото].

Рисунок 2.29 - Верхняя Мудьюга (автор съемки неизвестен, 1986 г.) (http://www.strana-naoborot.com/3ru/3pohoda/trip2/pictures/part8/trip2_p8_15.htm) [102, фото].
В перспективе Верховская (Верхнемудьюжская) групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.1.2 Вонгудская ГСНМ, Кокоринская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
Вонгудская групповая система населенных мест находится в центральной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 30 км к юго-востоку от районного центра - города Онеги и на расстоянии 5 км к северо-востоку от села Порог (дд. Большая Сторона и Порожская) - административного центра Кокоринской сельской администрации.
Вонгудская ГСНМ расположена на левом (восточном) берегу в излучине реки Вонгуды и образовалась в результате срастания деревень Букоборская - Букоборовская – Конец (1), Зиновьевская - Зеновьевская - Дмитриева Гора - Митрова гора - Митрева гора (2), Кишкинская – Заручей (3), Савеловская - Савеновская - Дальняя Гора - Большая гора - Нижнее Заполье (4), Савинская - Савинское - Верхнее Заполье - Вонгудский Погост - Дальняя Гора - Большая гора - село Вонгуда (5), Труфановская - Труфановская 2-я - Труфаловская - Средний двор - с. Савинское (Дальняя Гора, Верхнее Заполье, село Вонгуда) (6) (рисунки 2.1, 2.30-2.32) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 22; 83, карты; 44, с. 25, 160, прим. 21; 45, с. 127, рис. 16.2, с. 141, рис.22.1; 46, с. 170, рис. 3а.Е].
На период полевых работ Историко-архитектурной экспедиции Петрозаводского государственного университета 1987 года в деревне Букоборская - Букоборовская - Конец насчитывалось 16 жилых домов, в деревне Зиновьевская - Зеновьевская - Митрова гора - Митрева гора - 16 жилых домов, в деревне Кишкинская – Заручей - 5 жилых домов, в деревне Савеловская - Савеновская - Дальняя Гора - Нижнее Заполье - с. Савинское - 9 жилых домов, в деревне Савинская - Савиинская - Верхнее Заполье - Вонгудский Погост - с. Савинское - 44 жилых дома, а в деревне Труфановская - Труфановская 2-я - Труфаловская - Средний двор - с. Савинское (Дальняя Гора, Верхнее Заполье, село Вонгуда) - 5 жилых домов (рисунок 2.33).
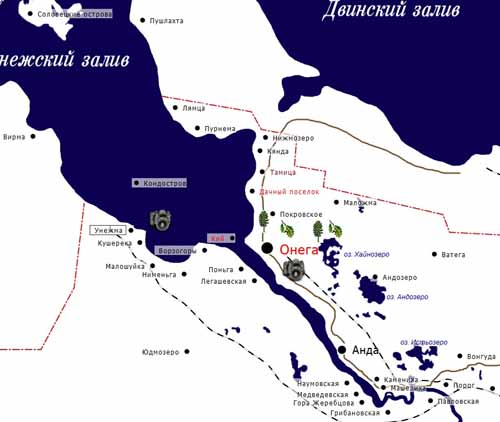
Рисунок 2.30 - Фрагмент карты на портале «Onegaonline.ru» [82, карта].

Рисунок 2.31 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1937 г.) [82, карта].
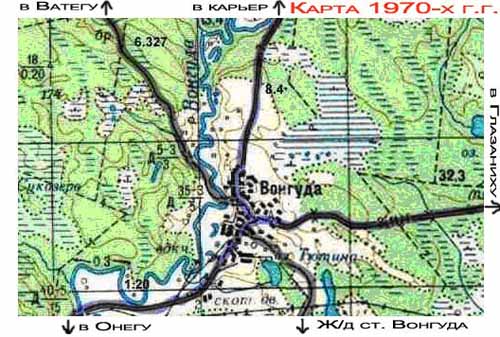
Рисунок 2.32 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1970-х гг.) [82, карта].
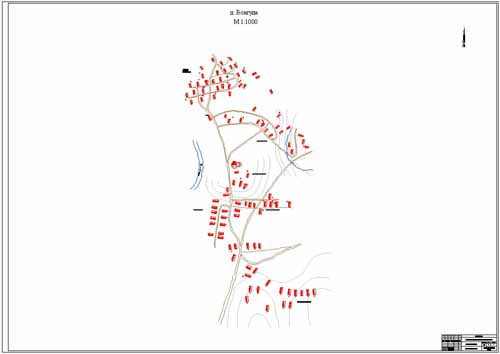
Рисунок 2.33 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда, Кокоринская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
Архитектурно-типологическое описание планировки и застройки Вонгудской ГСНМ, содержащееся в формуле «К1/2(2)(01.5->01.5), ПК1/1, Т3/2(1), ПТ2, В4/_(1):[В2/1(1)+В3/1(1)], ПВ3/2(3)(01.1)(02.1), Р1», приведено в приложении А и в таблице Б.1.
К фрагменту топографической карты окрестностей поселка Вонгуда 1970-х годов, опубликованной на портале «Onegaonline» в разделе «Село Вонгуда», приложена фотография, выполненная неизвестным автором с изображением общего вида села (рисунок 2.34) [82, фото].

Рисунок 2.34 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:
Согласно сведениям, хранящимся в архиве музея г. Онеги, известно, что село Вонгуда «находится в 27 км от г. Онеги по а/дороге Онега - Ярнема - Каргополь. Живописно раскинулось на моренных грядах - «горах», у подножия которых протекает одноименная река, в 4,5 км от села впадающая в р. Онегу (у с. Порог). В состав села входят деревни: Букоборская (Конец), Зиновьевская (Дмитриева (Митрова) Гора, Савеловская (Нижнее Заполье, Дальняя Гора). Савинская (Верхнее Заполье, Вонгудский Погост), Труфановская (Средний Двор) и Кишкинская (Заручей).
Приходские храмы. Вместо деревянного «тройника», сгоревшего в 1815 г. (см. «Вонгудский приход») были построены (1817-1824 гг.) два каменных храма, соединенных вместе: Собора Богородицы (зимний) с приделом Трех Святителей Вселенских и Вознесения Господня (летний), над папертью - колокольня. На 2008 г. храм находится в руинах: обезглавлен, без окон, с проломами в стенах; кровля над центральной частью и алтарем отсутствует, колокольня разрушена.
Население. На 1896 г. - 847 жителей обоего пола; на 1917-18 гг. - 855 жителей при 185 дворах; на 1920 г. - 857 жителей при 219 дворах; на 1998 г. - 181 житель при 78 постоянных хозяйствах; на 2000 г. - 180 жителей при 74 постоянных хозяйствах; на 2008 г. - 175 жителей при 65 постоянных хозяйствах. Основные занятия жителей. Сельское хозяйство, гончарное производство (к началу XX в. затухло), лесные и отхожие промыслы, обслуживание ж/д по ст. Вонгуда (после прокладки ветки «Обозерская - Мурманск»).
Административная принадлежность. До 1685 г. входило в Порожский приход, затем - самостоятельный приход (на 1896 г. - Третье благочиние Онежского уезда). С 1785 г. по 1831 г. с. Вонгуда - центр одноименной волости. До 16.04.1918 г. входило в Кокоринскую волость, Вонгудо-Андозерское сельское общество. С 16.04.1918 г. вошло в самостоятельную Вонгудо-Андозерскую волость и общество. На 1939 г. - в составе Кокоринского с/с. На 1998 г. - в составе Кокоринской администрации. На 2008 г. - в составе МО «Порожское». Хозяйственный статус. В период коллективизации в селе был организован колхоз «Правда». В 1953 г. присоединенный к колхозу «Коммунар» (с. Порог). С 1958 г. - в составе совхоза «Онежский». С декабря 1992 г. - в составе ТОО «Онежское» [82].
Дополняя выше приведенную характеристику Вонгудской групповой системы населенных мест следует, также упомянуть о сведениях из «Краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской епархии». 1896 года, согласно которым становится известно, что «Вонгудский приход расположен на л.б. р. Вонгуда, в 4-х верстах от места ее впадения в р. Онегу и в 4-х верстах от ближайшего Порожскаго пр-да. В состав пр-да входят 5 деревень, расположенных одна возле другой, не далее 1 версты от приходских храмов. Жителей в них (к 1896 г.) состояло 407 м.п. и 440 ж.п. Река маловодна, но весной и осенью, после обильных дождей, она выходит из берегов, «гудит», как говорят в деревнях, неся свои грязно-мутные воды.
По летописи церковной, обработанной в 1825 г., мы узнаем, что Вонгудский пр-д издревле принадлежал Порожскому приходу, но в 1685 г. стал самостоятельным, согласно желанию местных жителей, испросивших благословения у Новгородскаго архиепископа Иова на строительство первой ц-ви в честь Собора Пресвятой Богородицы. Ц-вь эта 5-главая, с большой трапезною и колокольней. На колокольне было 5 колоколов. Освящена была ц-вь 4 июля 1685 г. Кроме этого храма усердием местных крестьян устроен был еще один храм (холодный) в честь Вознесения Г-ня, шатровый, благолепно украшенный (время постройки неизвестно).
В 1815 г., 7 мая, случилось великое несчастье в Вонгудском пр-де, как гласит церковная летопись. В воскресный день, после Божественной литургии, около полудня, загорелась Вознесенская ц-вь, от нее - колокольня, а затем и ц-вь Собора Б-цы. Во время пожара свящ-к успел вынести только Напрестольное Евангелие, одну ризу и две приходо-расходных книги, а прихожане спустили колокола с колокольни и вынесли Св. иконы из теплой ц-ви (Собора Б-цы), все же остальное имущество погибло в огне. Пожар начался в кладовой Вознесенской ц-ви.
После этого горестного события причт и прихожане в том же 1815г. обратились с усердной просьбой к Преосвященному Парфению о постройке в Вонгудском пр-де 2-х каменных храмов, с пристройкой к теплой ц-ви придела Трех Святителей: Василия Великаго, Григория Богослова, Иоанна Златоустаго. Получив разрешение, прихожане начали заготавливать стройматериалы.
В это время Бог послал на помощь прихожанам усерднейшаго и просвещеннейшаго строителя в лице знаменитаго в истории Архангельской епархии архимандрита Сийскаго м-ря Вениамина, уроженца с. Вонгуда, побывавшего здесь 28 августа 1824 г. с епископом Неофитом, когда еще живы были мать его и родной брат, Григорий Ларионов, (отцом же его, нужно полагать, был священник о. Никифор Ларионов, ум. в 1818 г.).
Архимандрит Вениамин сам лично собрал до 2000 р., затем, по его просьбе была выдана Преосвященным Неофитом сборная книга по всей епархии, и первым вкладчиком по ней был сам Владыка, пожертвовавший из собственных средств 50 р. Но собранной суммы было еще недостаточно для окончательного устройства храмов. Тогда архимандрит Вениамин обратился в Св. Синод с просьбой дать недостающую сумму. К общей радости строителей, Св. Синод без замедления ассигновал 6050 р. ассигнациями. Таким образом, на собранные деньги прихожане выстроили два каменных храма, соединенных между собой.
Ц-вь во имя Собора Богородицы (теплая) была начата в 1817 г., освящена в 1819 г. архимандритом Вениамином. Придельный храм Трех Святителей освящен в 1820 г. протоиереем Онежскаго собора о. Иоанном Тамицким. Храм Вознесения Г-ня (холодный) освящен был в 1824 г. игуменом Николаевскаго (Николо-Корельскаго) м-ря Иовом, родным братом архимандрита Вениамина. В 1887 г. деревянная кровля храмов была заменена на железную на средства крестьянина Вонгудскаго пр-да Григория Алексеевича Егорова, ныне уже умершаго (на 1895 г.). В 1889г. на средства этого же человека сделан новый иконостас в храме Вознесения Г-ня, а в минувшем, 1895 г., на средства сына его, Константина Григорьевича, обновлен иконостас в ц-ви Собора Б-цы, так что в настоящее время (1896 г.) храмы благоустроены и снабжены всеми принадлежностями для богослужения.
Средствами на содержание храмов, помимо кружечно-кошельковаго сбора (1894 г.-20 р. 35 коп.) и свечной прибыли (59 р. 65 коп.), служат %% с билета на 1000 р., пожертвованного тем же крестьянином Егоровым на поправку ц-вей и причтовых домов, и арендная плата от 7 до 8 руб. за 1 десятину сенокоса. Причт, состоящий из священника и псаломщика, с 1894 г. получает жалования 294 р. в год, дохода за требоисправления около 250 р. в год. Во владении своем причт имеет 5 десятин 1900 саженей пашни и 9 десятин сенокоса. Для причта имеются 2 общественных дома, купленных в 1884 г. и 1894 г.
17 сентября 1889 г. в Вонгудском пр-де открылась церковно-приходская школа в память спасения Их Императорских Величеств с Августейшей Семьей 17 октября 1888 г. В школе в 1895-1896 уч. году учится 25 мальчиков и 15 девочек; Законоучителем и учителем пения состоит местный свящ-к бесплатно, учительницей - Каллисфенния Флерова, окончившая курс обучения в Епархиальном женском уч-ще, получает жалования 120 руб. в год. Помещение для школы - наемное.
Священниками в Вонгудском приходе состояли: о.Петр Софронович Попов(потом иеромонах Крестнаго монастыря); о. Илларион Смирнов; о. Петр Иванов; о. Никифор Ларионов - с 1793 по 1818 гг.; о. Павел Попов; о. Иоанн Дьячков (выбыл в Кожеозерский монастырь); о. Иоанн Попов (служил на приходе 30,5 лет (по 1855г.)); о. Афанасий Попов - с 1855 по 1872 гг.; в 1872 г. Вонгудский приход был объединен с Порожским, причем священник о. Афанасий Попов был переведен в Порожский приход и заведывал Вонгудским как входящий священник до 8 ноября 1885 г.; о. Павел Титов (по восстановлении самостоятельности прихода) - с 1885 г. по 1 декабря 1889 г.; о. Иоанн Федоров - с 4 декабря 1889 г. по 15 февраля 1892 г.; о. Афанасий Попов (вторично) с 15 февраля 1892 г. по 1 сентября 1895 г.
Ныне (1895 г.) приходским священником состоит о Александр Афанасьевич Попов, 25 дет, окончивший курс обучения в семинарии по 1 разряду, в сане священника Вонгудскаго пр-да - с 6 сентября 1895 г. Псаломщиком - Василий Алексеевский,27 лет, уволен из 2 класса духовнаго уч-ща, на службе - с 1887г., в настоящем приходе - с 1891 г.» [36].
Интерес также представляют статистические данные, опубликованные на портале «Onegaonline» в разделе «Деревня Вонгуда», в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [82]. Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о деревнях Букоборская (Букоборовская), Зеновьевская, Кишкинская, Савеловская, Савинская, Труфановская 2-я, правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 233-235; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о селе Вангуда, в котором на этот момент насчитывалось 25 дворов, в которых проживало 142 человека (64 - мужского и 78 - женского пола). В это же время в списках имеется упоминание о деревне Букоборская, в которой насчитывалось 23 двора, в которых проживало 139 человек (66 - мужского и 73 - женского пола) и о деревне Зиновьевская (Зеновьевская), в которой насчитывался 21 двор, в которых проживало 130 человек (56 - мужского и 74 - женского пола), а также о деревне Кишкинская, в которой насчитывалось 11 дворов, в которых проживало 53 человека (23 - мужского и 30 - женского пола), о деревне Савеловская, в которой насчитывалось 17 дворов, в которых проживало 82 человека (38 - мужского и 44 - женского пола), о деревне Савинская, в которой насчитывалось 29 дворов, в которых проживало 149 человек (62 - мужского и 87 - женского пола), и о деревне Труфановская 2-я, в которой насчитывалось 15 дворов, в которых проживало 100 человек (48 - мужского и 52 - женского пола) [82; 92, с. 43].
В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о деревнях Букоборовская (Конец), Зиновьевская (Митрова гора), Кишкинская (Заручей). Савеловская (Нижнее заполье), Савинская (Верхнее заполье) и Труфановская (Средний двор). В деревне Букоборовская (Конец) количество жилых дворов на данный момент составляло 44 единицы. Количество населения: мужского пола - 106, женского пола - 91 (всего 197 человек). В это же время имеется упоминание о деревне Зиновьевская (Митрова гора). Количество жилых дворов в ней на данный момент составляло 32 единицы. Количество населения: мужского пола - 79, женского пола - 101 (всего 180 человек). Также упоминается деревня Кишкинская (Заручей). Количество жилых дворов в ней на данный момент составляло 23 единицы. Количество населения: мужского пола - 74, женского пола - 60 (всего 134 человека). В свою очередь в деревне Савеловская (Нижнее заполье) количество жилых дворов составляло 17 единиц. Количество населения: мужского пола - 39, женского пола - 50 (всего 89 человек). В деревне Савинская (Верхнее заполье) количество жилых дворов составляло 31 единицу. Количество населения: мужского пола - 90, женского пола - 119 (всего 209 человек). А в деревне Труфановская (Средний двор) количество жилых дворов составляло 33 единицы. Количество населения: мужского пола - 90, женского пола - 94 (всего 184 человека). В этот период времени упомянутые выше деревни относились к Кокоринской волости Вонгудо-Андозерского сельского общества и соответственно к Вонгудскому приходу [14, с. 170-171; 82].
А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о деревнях Букоборская (Конец), Зиновьевская (Митрова гора), Кишкинская (Заручей), Савеловская (Нижнее заполье), Савинская (Верхнее заполье) и Труфаловская (Средний двор). В деревне Букоборская (Конец) количество дворов на данный момент составляло 43 единицы. Количество населения: обоего пола - 195 человек. В деревне Зиновьевская (Митрова гора) насчитывался 31 двор с населением 138 человек обоего пола. В деревне Кишкинская (Заручей) насчитывалось 25 дворов с населением 112 человек обоего пола. В деревне Савеловская (Нижнее заполье) насчитывалось 17 дворов с населением 74 человека обоего пола. В деревне Савинская (Верхнее заполье) насчитывалось 35 дворов с населением 156 человека обоего пола. А в деревне Труфаловская (Средний двор) насчитывалось 34 двора с населением 180 человек обоего пола [82; 93, с. 14].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» имеется упоминание о деревнях Букоборская (Конец), Зиновьевская (Митрева гора), Кишкинская (Заручей), Савеловская (Дальняя Гора, Нижнее Заполье), Савинское (Дальняя Гора, Верхнее заполье, село Вонгуда) и Труфановская (Средний двор). В деревне Букоборская (Конец) по переписи 1920 года насчитывалось 48 двор, а количество населения: мужского пола - 74, женского пола - 113 (всего 187 человек). В деревне Зиновьевская (Митрева гора) в это время имелось 39 дворов, а количество населения: мужского пола - 51, женского пола - 88 (всего 139 человек). В деревне Кишкинская (Заручей) в это время имелось 32 двора, а количество населения: мужского пола - 52, женского пола - 81 (всего 133 человека). В деревне Савеловская (Дальняя Гора, Нижнее Заполье) в это время имелось 17 дворов, а количество населения: мужского пола - 25, женского пола - 44 (всего 69 человек). В деревне Савинское (Дальняя Гора, Верхнее заполье, село Вонгуда) в это время имелось 40 дворов, а количество населения: мужского пола - 53, женского пола - 86 (всего 139 человек). Наконец, в деревне Труфановская (Средний двор) в это время имелось 43 двора, а количество населения: мужского пола - 81, женского пола - 109 (всего 190 человек). В данное время деревни относились к Вонгудо-Андозерскому сельскому обществу Вонгудо-Андозерской волости Онежского уезда [82; 94, с. 75]. В результате укрупнения волостей в 1924 году данные деревни вошли в состав Вонгудского сельского общества Онежской волости Онежского уезда с центром в селе Вонгуда [82; 95, с. 26-27].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о деревнях Букоборовская, Зиновьевская, Кишкинская, Савеновская, Савинская и Труфановская в составе Вонгудского сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 345; 82].
Упоминания о церквях Вонгудского погоста содержатся также в работе краеведа Г.Б. Дерягина «Окрестности Онеги», опубликованной на сайте «Sudmed-nsmu.narod.ru» [25]. «Немного по дороге в сторону от Порога стоит Вонгудский приход, в котором к 1 января 1896 года было 847 жителей. Протекающая там речка Вонгуда в половодье бешено мчит свои мутные, глинистые воды. Как говорят в деревне Вонгуде - «гудит». Восторженно восклицают: «Вон, гуда»! В XVII веке в Вонгуде был построен тройник: Вознесенская церковь, колокольня, церковь Собора Богоматери. Тройник уничтожен пожаром 7 мая 1815 года. Поэтому новые церкви поставили в каменном исполнении. В 1817 году освятили теплую каменную церковь Собора Богоматери с придельным храмом Трёх Святителей. В 1820 году был освящен каменный, холодный храм Вознесения Господня. Однако в настоящее время в Вонгуде смотреть не на что» [25].
Интерес также представляют сведения из статьи краеведа Е. Некрасова «Там, где семужка живет», опубликованной в газете «Онега» 5 апреля.2011 года [52; 82]. «Легенды и ремесла. Вонгуда. Это село немного в стороне от большой дороги. Дмитриева гора, деревня Заручевье, Большая гора составляют деревню Вонгуду. По церковной летописи, деревня получила свое административное значение в 1685 году, затем была приписана к Порожскому приходу. В 1685 году жители построили пятиглавый собор в честь Пресвятой Богородицы с папертью и колокольней о пяти колоколах. Рядом с собором стояла холодная шатровая церковь постройки 12 - 13 веков. Завершала архитектурный ансамбль рубленая колокольня. Судьба шатровой церкви неизвестна, по летописи пятиглавый собор от удара молнии 7 мая 1815 года сгорел. Пострадала и колокольня, но жители успели снять колокола.
Жители обратились к своему односельчанину, настоятелю Сийского монастыря архимандриту Вениамину с просьбой, чтобы он походатайствовал перед Москвой о строительстве нового белокаменного храма. Он с радостью согласился, сам пожертвовал на строительство своих 2000 рублей, добился разрешения на право кружечного сбора с населения и 6050 рублей из казны Святейшего Синода. Так были построены две церкви в одних связях. Теплая получила прежнее название, а вторая, холодная, в честь 3-х святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, освящена она была в 1820 году. Местный купец, разбогатевший на перепродаже горшков вверх по Онеге, Григорий Егоров и его сын Константин вложили свои капиталы в новые иконостасы, за что получили право стоять в первом ряду во время службы.
В 1889 году в селе открылась церковно-приходская школа, в которой на 1895-96 учебный год насчитывалось учеников 25 мальчиков и 15 девочек. Здание под школу полностью содержали жители. В 1896 году в Вонгуде насчитывалось 407 душ мужского пола и 440 душ женского.
Крутые склоны гор быстро высыхают под лучами солнца, покрываются изумрудной зеленью. За жителями Вонгуды издавна закрепилась слава горшечников, и слава эта была заслуженной. Во многих домах города и района еще можно встретить глиняные миски, роговики и крынки. Посуда удобная, пусть не очень привлекательная по современным меркам, но необходимая в любом хозяйстве. Хорошей хозяйке и тесто замесить, молоко разлить, кашу сварить - на все посуда вонгудская сгодится.
Почему именно в этой деревне прижилось гончарное ремесло? По древней легенде, новгородцы, обосновавшись по реке Онеге, нашли в этом местечке хорошего качества глину, она была жирной, и что важно, хорошо поддавалась обработке. Новгородцы постепенно ушли с этих мест, а оставшиеся из поколения в поколение передавали секреты гончарного мастерства. Онежане и сейчас приезжают в Вонгуду, чтобы набрать глины, кто для лепки в художественной школе, кто для баловства, а кто и для кладки печей. Говорят, что такая глина и тепло в печи хранит дольше.
Из гончаров были известны братья Кашины, Никита и Александр Андреевичи. Глину брали вонгудскую, белую, чтобы посуда не пропускала воду, ее обрабатывали специальным составом из расплавленных свинца и белого кварцевого песка. После этого посуду обжигали в печи за огородами, в поле. Есть еще одна вонгудская легенда о том, что горшечники для обжига посуды израсходовали весь ближайший лес, потому и стоит деревня в чистом поле. Быть может, забытое ремесло вновь возродится в этой красивой деревеньке. Стоит она теперь на большой дороге, на склоне Дмитриевой горы, поблескивает витринами магазин, правда, сделан он не из вонгудского, а из силикатного кирпича» [52; 82].
Необходимо также отметить, что на портале «Оnegaonline.ru» в разделе «Деревня Вонгуда» представлен достаточно развернутый набор фотографий с изображениями общего вида поселения и окружающей его местности (рисунки 2.35-2.78) [82, фото].

Рисунок 2.35 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:
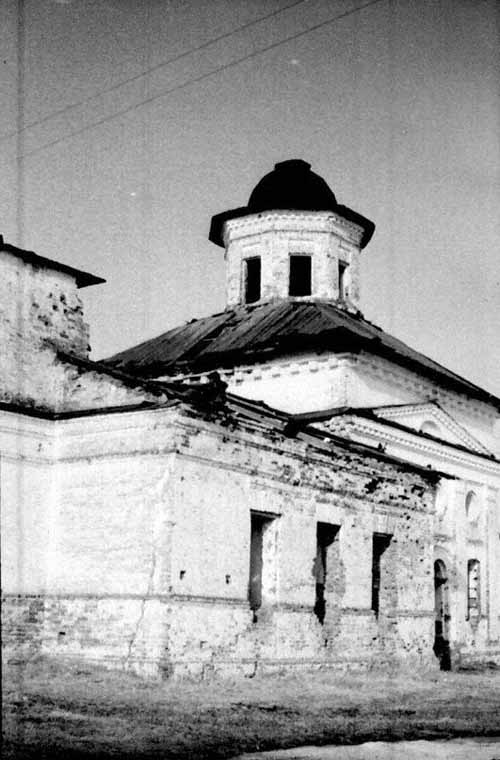
Рисунок 2.36 – Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области. Церковь (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.37 – Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области. Церковь (автор съемки неизвестен, 1970-е гг.) [82, фото]:

Рисунок 2.38 – Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор съемки неизвестен, 1975 г.) [82, фото]:

Рисунок 2.39 – Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.40 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.41 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.42 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.43 – Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.44 – Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.45 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.46 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.47 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.48 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.49 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области. Дорога Онега-Каргополь (автор съемки неизвестен, 2007 г.) [82, фото]:

Рисунок 2.50 – Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.51 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области. Восточная окраина (автор съемки неизвестен, 2007 г.) [82, фото]:

Рисунок 2.52 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.53 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.54 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.55 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.56 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.57 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области. Вид с северной окраины. д. Савинская (Вонгудский Погост) - часть села вокруг храмового комплекса (автор съемки неизвестен, 2007 г.) [76, фото].

Рисунок 2.58 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.59 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.60 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.61 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.62 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.63 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.64 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.65 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.66 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.67 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области. Вид с северной окраины. д. Савинская (Вонгудский Погост) - часть села вокруг храмового комплекса (автор съемки неизвестен, 2007 г.) [82, фото]:

Рисунок 2.68 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области. Южная окраина села (автор съемки неизвестен, 2007 г.) [82, фото]:

Рисунок 2.69 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.70 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области. Руины Вонгудской церкви. Были построены одним зданием: храм Вознесения Господня (1824 г.), Собора Богородицы (1815-1817 гг.) и придел Трех Святителей (1820 г.) (автор съемки неизвестен, 2007 г.) [82, фото]:

Рисунок 2.71 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области. Руины церкви (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.72 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.73 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.74 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.75 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.76 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото]:

Рисунок 2.77 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области. Общий вид (автор съемки неизвестен, август 2012 г.) [82, фото]:

Рисунок 2.78 - Поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда Онежского района Архангельской области. Общий вид (автор съемки неизвестен, август 2012 г.) [82, фото]:
Также необходимо отметить, что поселок Вонгуда - с. Вонгуда - Вангуда относится к категории акцентированных поселений. Согласно историческим сведениям в Вонгудском приходе ранее существовал храмовый комплекс, состоявший из пятиглавой Богородицкой церкви (Собора Богородицы, в честь Собора Пресвятой Богородицы, в честь Пресвятой Богородицы), освященной 4 июля 1685 года и имевшей большую трапезную и колокольню с пятью колоколами, холодной шатровой Вознесенской (в честь Вознесения Господня) церкви, построенной в XII-XIII вв., и колокольни, время постройки которой осталось неизвестным. Деревянный «тройник» сгорел в 1815 году и на его месте в период 1817-1824 годов были построены два каменных храма, соединенных вместе: теплый собор Богородицы (во имя Собора Богоматери) (зимний) с приделом Трех Святителей Вселенских (в честь трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста) (1819-1820 гг.) и храм Вознесения (Вознесения Господня) (летний) с колокольней в одних связях (над папертью) (1824 г.) [36; 52; 82]).
В перспективе Вонгудская групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.1.3 Ворзогорская ГСНМ, Нименьгская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область.
Ворзогорская групповая система населенных мест находится в северной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 50 км к юго-западу от районного центра - города Онеги и на расстоянии 25 км к северо-востоку от поселка Нименьга - административного центра Нименьгской поселковой администрации.
Ворзогорская ГСНМ расположена на юго-западном берегу Белого моря и состоит из деревень Кондратьевская - Кондратовская - Погост - Кондратьевское (Ворзогорский Погост) - Ворзогорская (1) и Яковлевская (2) (рисунки 2.1, 2.30, 2.79-2.90) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 22; 82, карты; 57, карты; 58, карты; 75, карты]. На период полевых работ Историко-архитектурной экспедиции Петрозаводского государственного университета 1987 года в деревне Кондратьевская - Кондратовская - Погост - Кондратьевское (Ворзогорский Погост) - Ворзогорская - Ворзогоры насчитывалось 45 жилых домов, тогда как в деревне Яковлевская - Ворзогоры насчитывалось 32 жилых дома, а еще два дома к этому времени были уже утрачены.
Архитектурно-типологическое описание планировки и застройки Ворзогорской ГСНМ, содержащееся в формуле «К1/1(1)(01.2), ПК1/1, Т1/2(1), ПТ1, В4/_(4):[В2/2(1)+В2/1(3)+В3/1(1)], ПВ4/3(3)(01.1)(02.2)(03.2)(04.1), Р1», приведено в приложении А и в таблице Б.1.

Рисунок 2.79 - Деревня Ворзогоры Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты ? г.) [82, карта].
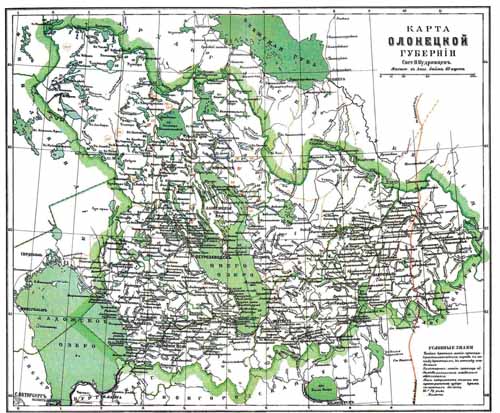
Рисунок 2.80 - Карта Олонецкой губернии. Сост. Н. Кудрявцев. Масшт. в Англ. дюйме 60 верст [75, карта].
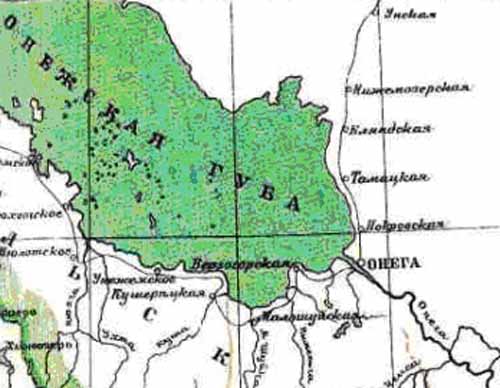
Рисунок 2.81 - Ворзогорская. Карта Олонецкой губернии. Сост. Н. Кудрявцев. Масшт. в Англ. дюйме 60 верст (фрагмент карты ? г.) [75, карта].
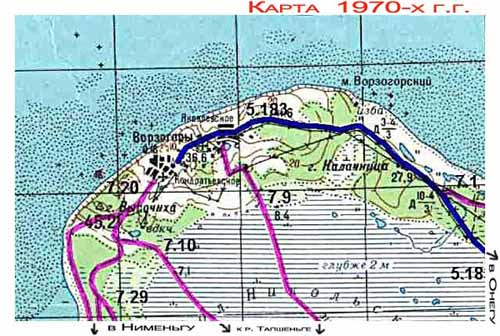
Рисунок 2.82 - Деревня Ворзогоры Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1970-х гг.) [82, карта].
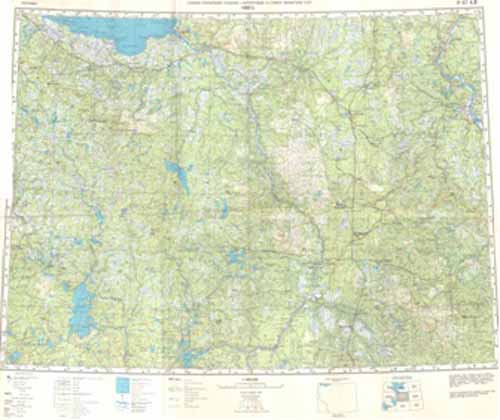
Рисунок 2.83 - Топографическая карта. Онега. СССР. РСФСР. Р-37-А,Б. М 1:500000. 1991 г. [57, карта].

Рисунок 2.84 - Деревня Ворзогоры Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1991 г.) [57, карта].

Рисунок 2.85 - Деревня Ворзогоры Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1991 г.) [57, карта].
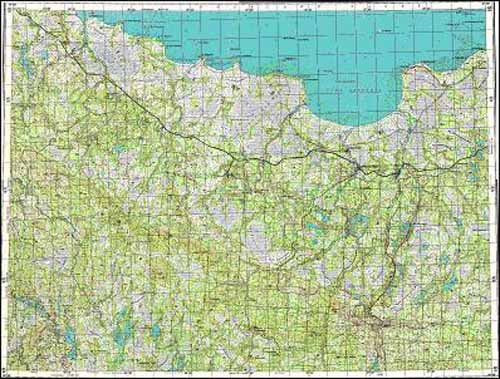
Рисунок 2.86 - Топографическая карта. Онега. СССР. РСФСР. Р-37- I-II. М 1:500000. 1991 г. [58, карта].
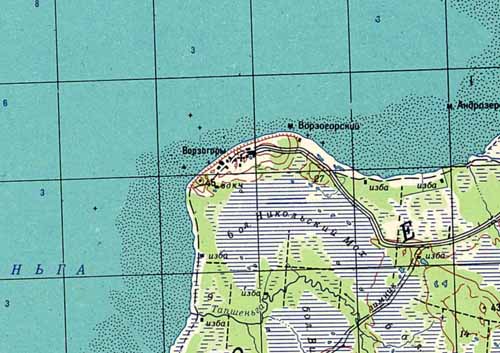
Рисунок 2.87 - Деревня Ворзогоры Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1991 г.) [58, карта].
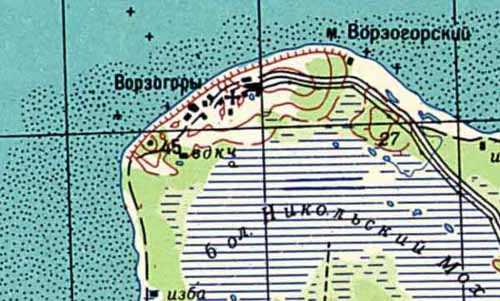
Рисунок 2.88 - Деревня Ворзогоры Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1991 г.) [58, карта].
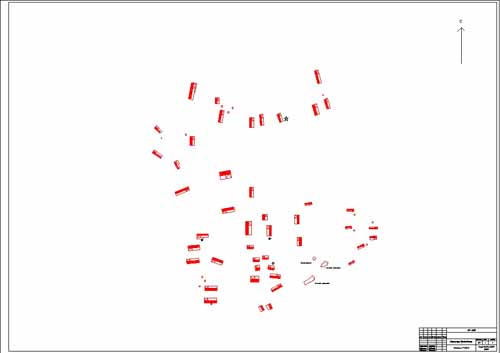
Рисунок 2.89 - Деревня Кондратьевская - Кондратовская - Погост - Кондратьевское (Ворзогорский Погост) - Ворзогорская - Ворзогоры. Нименьгская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область.
Сведения о поселении Ворзогорское содержатся, в частности, на портале «Старые карты Онежского уезда Архангельской губернии, границы уезда» (адрес - http://starye-karty.litera-ru.ru/uezd/arh_karta-onezhskiy_uezd.html) [98]. «Онежский уезд был образован в 1780 г. в ходе административной реформы Екатерины Второй в составе Архангельской области Вологодского наместничества из земель Турчасовского стана Каргопольского уезда. В 1784 г. в составе указанной области вошёл в состав самостоятельного Архангельского наместничества (с 1796 г. губерния). Административным центром уезда был город Онега, известный с 1137 г. (изначально поселение с названием Погост на море)» (рисунки 2.91-2.92) [98, карты].
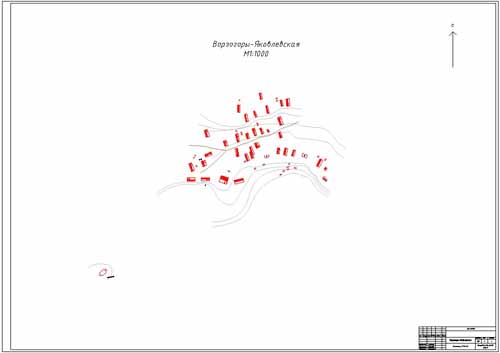
Рисунок 2.90 - Деревня Яковлевская - Ворзогоры. Нименьгская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область.
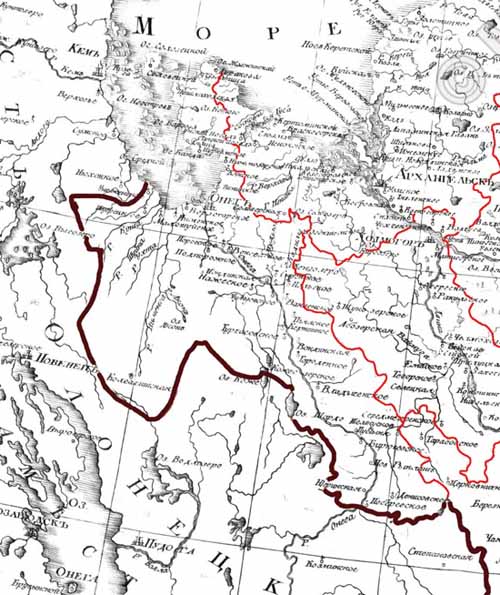
Рисунок 2.91 - Онежский уезд времен Екатерины Второй (в 1792 году) [98, карта].
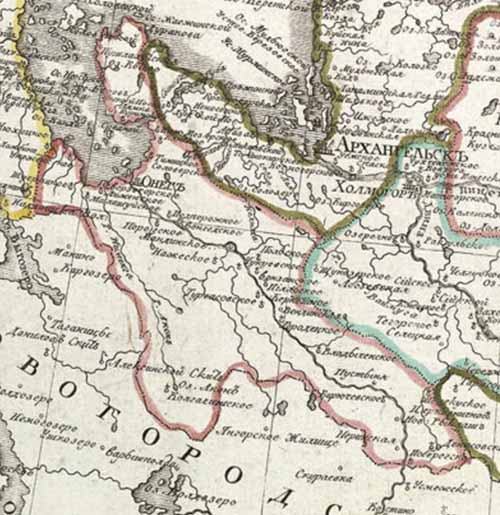
Рисунок 2.92 - Онежский уезд времён Павла Первого (в 1800 году) [98, карта].
Для общей характеристики Ворзогорской групповой системы населенных мест интерес также представляют сведения, собранные краеведом В. Елфимовым и опубликованные на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Ворзогоры» [82]. «На фотографии (предположительно архитектора В.В. Суслова. 1886 г. конца XIX в. запечатлен храмовый комплекс поморского села Ворзогоры (деревни Кондратьевская и Яковлевская), бывшего Ворзогорского прихода, входившего в Первое благочиние Онежского уезда (рисунок 2.93) [82, фото]. В центре снимка - летняя Никольская церковь (1636 г.), слева - зимняя Введенская церковь (1793 г.) и колокольня (17-18 веков). На кладбище, расположенном между деревнями, в 1850 году построили Зосимо-Савватиевскую церковь.
Приход упоминается в церковной летописи с 1578 года. Само поселение возникло, скорее всего, гораздо раньше. Храмы возведены в д. Кондратьевской, на вершине Ворзогорского мыса (около 45 метров над уровнем моря), усердием местных жителей. С древних времен они занимались земледелием, скотоводством, морским рыбным промыслом и кораблестроением. На 1920 год в обеих деревнях насчитывалось 983 жителя, дворов - 201.
Из зерновых выращивали ячмень, овес, озимую рожь. Своего хлеба у многих хватало почти на год. Картофель даже продавали в г. Онеге, обменивали у жителей деревень, расположенных ближе к Мурману, на треску, палтус. Продавали и беломорскую сельдь, которую зимой ловили неводами. Удочками на морского червя ловили навагу. Мелкую камбалу сушили на зиму (т.н. «сушьё»), чтобы потом варить уху. Крестьяне по богаче имели свои суда, торговали в Архангельске, Норвегии. Оттуда в село привозили промышленные товары и «экзотические» пищевые продукты.
В 1929 г. был организован рыболовецкий колхоз. Владельцев судов раскулачили. Церкви закрыли. В Введенском теплом храме сделали клуб, в Никольском - зернохранилище. В конце концов, в результате колхозных работ за трудодни, войн, лесозаготовок, непомерных налогов (как и в других селах и деревнях уезда (района)), «укрупнений и разукрупнений» к концу XX в. жителей в селе осталась десятая часть, по сравнению с началом века.
В последние годы деревенские активисты предпринимают по истине героические усилия к сохранению села в жизнеспособном состоянии, ремонтируют своими силами, с помощью жертвователей, чудом уцелевшие храмы. Добрым гостям здесь всегда рады. Село находится в 25 км от Поньги - левобережной части г. Онеги. До него отсыпана хорошая песчано-гравийная дорога. Зимой она регулярно чистится. Единственная проблема последних лет - неустойчивая ледовая переправа через реку Онегу» [82].
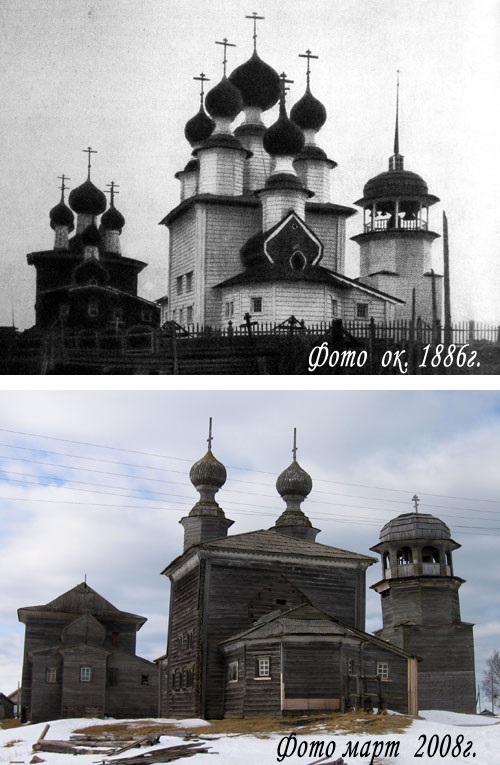
Рисунок 2.93 - А - Храмовый комплекс поморского села Ворзогоры (деревни Кондратьевская и Яковлевская), бывшего Ворзогорского прихода, входившего в Первое благочиние Онежского уезда. В центре снимка - летняя Никольская церковь (1636 г.), слева - зимняя Введенская церковь (1793 г.) и колокольня (17-18 веков) (автор - предположительно архитектор В.В. Суслов,. 1886 г.); Б - Храмовый комплекс поморского села Ворзогоры (деревни Кондратьевская и Яковлевская) (автор съемки неизвестен, март 2008 г.) [82, фото].
Дополняя выше приведенную характеристику Ворзогорской ГСНМ, следует, также упомянуть о сведениях из «Краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской епархии». 1896 года, согласно которым становится известно, что Ворзогорский «приход состоит из 2-х селений: Яковлевское и Кондратьевское (Ворзогорский Погост), составляющих с. Ворзогоры. Находится на берегу Онежской губы Белого моря, в 23 верстах к северо-западу от г. Онеги; в 12 верстах от Нименьгского прихода и в 255 верстах от г. Архангельска. Жителей в нем на 1.01.1895 г. состояло: 518 м.п. и 659 ж.п.
Описываемый приход по церковной летописи существует с 1578 г. В настоящее время (на 1896 г. - С. Головченко) в нем три церкви: Введенская, построенная в 1793 г.; Никольская – 1636 г.; Зосимо-Савватиевская, на кладбище, - 1850 г. Все они обшиты тесом и окрашены, довольно прочны; крыши деревянные. Первые две - 5-главые, последняя - 1-главая.
Во Введенской церкви три престола: в честь Введения во Храм Пресвятой Девы Марии, святителя Василия Великого, ВЛКМ Георгия. В Никольской и Зосимо-Савватиевской - по одному престолу. Принадлежностями к богослужению достаточны.
Содержаться они исключительно на суммы кружечно-кошельковых сборов (1894 г.- 25 р.90 к.) и на свечную прибыль (продано 3 пуда 6 ф.). Кроме того, их содержанием озабочено приходское попечительство, открытое 22.11.1888 г. Причт (священник и псаломщик) владеет 34 десятинами земли, получает жалования 120 р. в год, дохода - до 200 р. в год. В 1881 году открыта церковноприходская школа, помещающаяся в доме псаломщика; он же - учитель и Законоучитель. В 1894 г. училось 26 мальчиков и 2 девочки.
Приходским священником состоит о. Василий Климентов Шангин, 60 лет, уволенный из среднего отделения семинарии; на службе в должности дьячка с 15.08.1856 г., в сане диакона - с 20.06.1865 г., священника - с 6.04.1869 г.; на занимаемом месте - с 24.03.1883 г. Псаломщик - Григорий Васильев Глядинский, 29 лет, уволен из 1 класса семинарии, на службе с 20.05.1892 г.» [36].
Упоминания о церквях Ворзогорского погоста содержатся также в работе краеведа Г.Б. Дерягина «Окрестности Онеги», опубликованной на сайте «Sudmed-nsmu.narod.ru» [25]. В разделе «Приходы в морской части Онежского района» он писал, что «Ворзогорский приход с 1578 г. На 1 января 1895 г. 1177 жителей. Три деревянные церкви: Введенская, 1793 г., Никольская, 1636 г., обе пятиглавые, и кладбищенская Зосимо-Савватьевская, 1850 г. ЦПШ с 1881 г. Смотришь на Никольскую церковь, и создается ощущение, что она изначально была шатровой. Вероятно, в «Кратком историческом описании приходов и церквей Архангельской Епархии» ошибка. Должна изначально быть шатровой! Это же классический онежский «тройник» (рисунок 2.94-2.98) [25, фото].

Рисунок 2.94 - Храмовый комплекс поморского села Ворзогоры (деревни Кондратьевская и Яковлевская). Слева направо - Никольская церковь (1636 г.), Введенская церковь (1793 г.) и колокольни (XVII-XVIII вв.) (фото Б.Г. Дерягина, 1990 г.) [25, фото].

Рисунок 2.95 - Храмовый комплекс поморского села Ворзогоры (деревни Кондратьевская и Яковлевская). Никольская церковь (1636 г.) Вид с северо-востока (фото Б.Г. Дерягина, 1990 г.) [25, фото].

Рисунок 2.96 - Храмовый комплекс поморского села Ворзогоры (деревни Кондратьевская и Яковлевская). Введенская церковь (1793 г.). Вид с юго-востока (фото Б.Г. Дерягина, 1990 г.) [25, фото].

Рисунок 2.97 - Село Ворзогоры (деревни Кондратьевская и Яковлевская). Кладбищенская Зосимо-Савватьевская церковь (1850 г.) (фото Б.Г. Дерягина, 1990 г.) [25, фото].

Рисунок 2.98 - Село Ворзогоры (деревни Кондратьевская и Яковлевская). Кладбищенская Зосимо-Савватьевская церковь (1850 г.) (фото Б.Г. Дерягина, 1990 г.) [25, фото].
Сведения о деревне Ворзогоры содержатся также в «Отчете о походе по Прионежью и Поморскому берегу Белого моря (Архангельская область) А. Дементева по маршруту: Оксовский (Наволок) - Ярнема, Городок (Прошково), Турчасово, Пияла, Большой Бор, Поле, Сырья, Подпорожье, г. Онега, Кий-остров, Ворзогоры - Нименьга, Малошуйка (Абрамовская) и Унежма 23 июня - 9 июля 2009 года (рисунки 2.99-2.101) [24, фото]. В составе группы были: священник С. Чураков, М. Чуракова, Т. Ярмолинская и А. Дементьев.

Рисунок 2.99 - Деревня Ворзогоры (фото священника С. Чуракова и М. Чураковой, 2009 г.) [24, фото].

Рисунок 2.100 - Деревня Ворзогоры (фото священника С. Чуракова и М. Чураковой, 2009 г.) [24, фото].

Рисунок 2.101 - Деревня Ворзогоры (фото священника С. Чуракова и М. Чураковой, 2009 г.) [24, фото].
В дневнике А. Дементьева записано, что 2 июля 2009 года «с утра зашли в дирекцию Онежского филиала Водлозерского национального парка, чтобы на будущее узнать о возможности его посещения. Контактная информация: 164880, г. Онега, наб. Попова, 5, тел./факс 75666. E-mail: parkoneg@atnet.ru. 12:00. На «Заре» переплыли через Онегу в Легашевскую гавань, оттуда на такси проехали 28 км до Ворзогор. Заказывали заранее, 500 р. с четверых. Остановились у московского священника Алексея, при участии которого уже около 5 лет идет восстановление храмов в Ворзогорах.
Сейчас ставят купола на Никольской церкви (1636 год, самая древняя в Онежском р-не), а во Введенской (1793) до сих пор клуб, так что туда пока с реставрацией не подойдешь. В свое время эти храмы, несмотря на свою древность, не были признаны памятниками архитектуры государственного значения из-за своей «крайней ветхости». Они вообще нигде не числились и никто за них не был ответственен. Вот благодаря этому только и возможно теперь их восстановление, в отличие, например, от Владимирской Церкви в Подпорожье. Проблема тут в том, что если у государства и появляются средства на восстановление подобных памятников деревянного зодчества, то все они оседают в карманах бюрократов, которые стремятся таким образом нажиться. И подобная ситуация практически повсеместна. Выделяют миллионы рублей, но их хватает только на то, чтобы поставить леса. Частным же образом никакой человек не сможет заняться реставрацией деревянного храма, если на нём висит табличка «памятник архитектуры». Один проект будет стоить не меньше, чем сама реставрация, а уж про то, что все жилы проверками вытянут, и говорить нечего. Так и стоят, разрушаясь, «под охраной государства» старинные храмы, пока не упадут или не сгорят. Проржавевшие таблички - часто единственное свидетельство этой охраны.…На шатровой(?) колокольне следы пожара. Как объяснили, следствие посиделок с выпивкой и куревом местной молодежи. Для них это такое место, где можно посидеть в своём кругу, потому-то внутри и навалено на лестнице всякого мусора в виде бутылок и обёрток. А на церкви им, в общем-то, плевать. Ну, закроют, - так недолго разломать или вообще сжечь. Так, как сожгли недавно восстановленный храм где-то на Онежском полуострове (запамятовал название села).
Ужинали в доме о. Алексея. Оказалось - много общих знакомых. Мир тесен, как известно. Жена, Татьяна Юшманова, - художник, много ходила по Русскому Северу; галерею работ можно посмотреть на ее сайте http://yushmanova.com/» [24].
Для общей характеристика села Ворзогоры интерес также представляют сведения историка-краеведа, члена Архангельского отделения Российского общества историков-архивистов Т. Мельник, представленные в статье «История ворзогорских фамилий. К 200-летнему юбилею поголовного обретения ворзогорами фамилий. К Всероссийской переписи 2010 года», опубликованные в газете «Онега» 31 марта 2011 года [82].
«Ворзогоры - селение из двух деревень Яковлевской и Кондратьевской - основаны выходцами из Великого Новгорода в первой половине ХVI в. на Поморском берегу Белого моря. В ХVII в. в административном делении Архангельской губернии Ворзогоры отнесены к Турчасовскому стану-уезду. В середине ХVI в. население Ворзогор записано в вотчине Соловецкого монастыря, с 1685 г. - Крестного монастыря Ставрос, основанного патриархом Никоном на Кий-острове в Онежской губе. Самый ранний переписной документ - это Сотная 1556 г. с книг письма Я. Сабурова и И. Кутузова. Выписка: «У моря деревни тяглые… на Ворзогорах две трети деревни Кондратовской: во дворе Лукянко Кондратов, во дворе Игнатко Кондратов, во дворе Павлик Кондратов…, во дворе Сенка Кондратов…» Хозяева четырех дворов родные братья Лука, Игнат, Павел и Семен - сыновья Кондрата, очевидно, того самого, который и основал деревню Кондратьевскую.
По переписи 1716 г. в Ворзогорах в двух деревнях жилых дворов - 7, пустых крестьянских дворов - 7, вдовьих пустых дворов - 2, всего человек 75. Особенность данных переписи 1716 г. в том, что «за скудостью» опустели многие дворы, то есть по причине неурожая, голода, нужды и бедности одни - живут подаяниями, другие - нашли работу на стороне (а именно: в Поморье, Архангельском городе, Холмогорском уезде, Кольском остроге, Санкт-Петербурге), а третьи и вовсе - «сошли в мир безвестно».
В поморских уездах лишь в 1811 г. впервые поголовно по фамилиям записаны крестьяне всех волостей. Так случилось и в Ворзогорах, поэтому большая часть местных фамилий произведена от церковно-славянских имен: Алексей (Алексий) - Алексеевы, Сидор (Исидор) - Сидоровы, Захар (Захария) - Захаровы, Хрисан (Хрисанф) - Крысановы, Елисей - Елисеевы. У меньшей части - фамилии устойчивы с прошлых времен, в их основе нецерковные имена: Козоба - Козобины, Ком - Комовы, Курица - Курицыны, Рогач - Рогачевы.
Женские имена помимо обычных Параскевы, Ириньи, Феклы и Матрены расцвечены такими редкими для нас, как: Олисава (Елизавета), Опросенья (Ефросинья), Офимья (Евфимия), Пестемья (Епистимия), Соломанья (Соломонида), Ховронья (вот откуда «крошечка-хаврошечка»). Среди мужских имен одно редкое - Ахтимон» [49].
К приведенному тексту была также представлена фотография села Ворзогоры (деревни Кондратьевская и Яковлевская), выполненная С. Головченко 28 сентября 2010 года (рисунок 2.102) [82, фото].

Рисунок 2.102 - Село Ворзогоры (деревни Кондратьевская и Яковлевская) (фото С. Головченко, 28 сентября 2010 г.) [82, фото].
Интерес также представляют статистические данные, опубликованные на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Село Ворзогоры», в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [82]. Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о деревнях Кондратьевская (Кондратовская) и Яковлевская, правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 234; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о деревне Кондратьевская, в которой на этот момент насчитывалось 10 дворов, в которых проживало 66 человек (18 - мужского и 48 - женского пола). В это же время в списках имеется упоминание о погосте Варзогорский (Ворзогоры), в котором насчитывалось 10 дворов, в которых проживало 47 человек (22 - мужского и 25 - женского пола). Наконец, имеется также упоминание о деревне Яковлевская, в которой насчитывалось 30 дворов, в которых проживало 112 человек (52 - мужского и 60 - женского пола) [82; 92, с. 45-46].
В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о деревне Яковлевская. Количество жилых дворов в ней на данный момент составляло 76 единиц. Количество населения: мужского пола - 264, женского пола - 289. (всего 553 человека) В это же время имеется упоминание о деревне Кондратьевская, в которой насчитывалось 114 дворов с населением 798 человек (340 - мужского и 458 женского пола). Деревни относились к Ворзогорской волости Ворзогорского сельского общества и соответственно к Ворзогорскому приходу [14, с. 164-165; 82]. А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о деревне Кондратьевская (Ворзогор.). В это время в деревне насчитывалось 77 дворов, в которых проживал 431 человек обоего пола. На этот период времени имеется также упоминание о деревне Яковлевское (Ворзогоры), в которой насчитывалось 122 двора с население в 646 человек обоего пола. Причем обе деревни в это время по-прежнему относились к Ворзогорской волости [82; 93, с. 14].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» имеется упоминание о селе Ворзогоры (Кондратьевское, Ворзогорский Погост), в котором по переписи 1920 года насчитывалось 127 дворов, а количество населения: мужского пола - 233, женского пола - 359 (всего 592 человека). В это же время имеется также упоминание о деревне Ворзогоры (Яковлевская), в которой имелось 74 двора, в которых проживал 391 человек (163 - мужского и 228 - женского пола). Эти населенные пункты относились к Ворзогорскому сельскому обществу Ворзогорской волости [82; 94, с. 75]. В результате укрупнения волостей в 1924 году, село Ворзогоры вошло в состав Онежской волости Онежского уезда [82; 95, с. 26-27].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о деревнях Кондратьевская и Яковлевская в составе Ворзогорского сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 345; 82].
Также необходимо упомянуть о сведениях, представленных на портале «Оnegaonline.ru» в виде набора фотографий общего вида деревни Кондратьевская - Кондратовская - Погост - Кондратьевское (Ворзогорский Погост) - Ворзогорская - Ворзогоры и храмового комплекса, расположенного в южной части поселения и состоящего из летней пятиглавой Никольской церкви (1636 г.), зимней пятиглавой Введенской церкви (1793 г.) с тремя престолами (в честь Введения во Храм Пресвятой Девы Марии, святителя Василия Великого, великомученика Георгия) и колокольни (XVII-XVIII вв.) (рисунки 2.103-2.119) [82, фото].

Рисунок 2.103 - Деревня Кондратьевская - Кондратовская - Погост - Кондратьевское (Ворзогорский Погост) - Ворзогорская - Ворзогоры Онежского района Архангельской области. Летняя Никольская церковь (1636 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.104 - Деревня Кондратьевская - Кондратовская - Погост - Кондратьевское (Ворзогорский Погост) - Ворзогорская - Ворзогоры Онежского района Архангельской области. Храмовый комплекс поморского села Ворзогоры. В центре снимка - летняя Никольская церковь (1636 г.), справа - зимняя Введенская церковь (1793 г.) и слева - колокольня (17-18 вв.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.105 - Деревня Кондратьевская - Кондратовская - Погост - Кондратьевское (Ворзогорский Погост) - Ворзогорская - Ворзогоры Онежского района Архангельской области. Храмовый комплекс поморского села Ворзогоры. Ансамбль с запада. В центре снимка - летняя Никольская церковь (1636 г.), слева - зимняя Введенская церковь (1793 г.) и справа - колокольня (17-18 вв.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.106 - Деревня Кондратьевская - Кондратовская - Погост - Кондратьевское (Ворзогорский Погост) - Ворзогорская - Ворзогоры Онежского района Архангельской области. Колокольня и Никольский храм (фото неизвестного автора, 1988 г.) [82, фото].

Рисунок 2.107 - Деревня Кондратьевская - Кондратовская - Погост - Кондратьевское (Ворзогорский Погост) - Ворзогорская - Ворзогоры Онежского района Архангельской области. На горизонте - Кий - остров. Фото с колокольни (фото неизвестного автора, 2003 г.) [82, фото].

Рисунок 2.108 - Деревня Кондратьевская - Кондратовская - Погост - Кондратьевское (Ворзогорский Погост) - Ворзогорская - Ворзогоры Онежского района Архангельской области. После ремонта колокольни. Зима 2003 г. (фото неизвестного автора, 2003 г.) [82, фото].

Рисунок 2.109 - Деревня Кондратьевская - Кондратовская - Погост - Кондратьевское (Ворзогорский Погост) - Ворзогорская - Ворзогоры Онежского района Архангельской области. Вид от горы Высочихи (фото неизвестного автора, 2005 г.) [82, фото].

Рисунок 2.110 - Деревня Кондратьевская - Кондратовская - Погост - Кондратьевское (Ворзогорский Погост) - Ворзогорская - Ворзогоры Онежского района Архангельской области. Вид от оз. Никольского (фото Г. Чухина (Онега). 2005г.) [82, фото].

Рисунок 2.111 - Деревня Кондратьевская - Кондратовская - Погост - Кондратьевское (Ворзогорский Погост) - Ворзогорская - Ворзогоры Онежского района Архангельской области. Никольский храм. Вид с колокольни (фото Г. Чухина (Онега). 2005г.) [82, фото].

Рисунок 2.112 - Деревня Кондратьевская - Кондратовская - Погост - Кондратьевское (Ворзогорский Погост) - Ворзогорская - Ворзогоры Онежского района Архангельской области. Сзади - г. Высочиха (45 м). Март 2008 г. (фото неизвестного автора, март 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.113 - Деревня Кондратьевская - Кондратовская - Погост - Кондратьевское (Ворзогорский Погост) - Ворзогорская - Ворзогоры Онежского района Архангельской области. Современный вид Ворзогорского ансамбля (фото неизвестного автора, март 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.114 - Деревня Кондратьевская - Кондратовская - Погост - Кондратьевское (Ворзогорский Погост) - Ворзогорская - Ворзогоры Онежского района Архангельской области. Введенская церковь (1793 г.). Используется под клуб. Вид с Никольской церкви (фото неизвестного автора, март 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.115 - Деревня Кондратьевская - Кондратовская - Погост - Кондратьевское (Ворзогорский Погост) - Ворзогорская - Ворзогоры Онежского района Архангельской области. Колокольня. Материал для ремонта Никольского храма (фото неизвестного автора, апрель 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.116 - Деревня Кондратьевская - Кондратовская - Погост - Кондратьевское (Ворзогорский Погост) - Ворзогорская - Ворзогоры Онежского района Архангельской области. Дома на восточной окраине. Фото апреля 2008 г. (фото неизвестного автора, апрель 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.117 - Деревня Кондратьевская - Кондратовская - Погост - Кондратьевское (Ворзогорский Погост) - Ворзогорская - Ворзогоры Онежского района Архангельской области. Вид на храмы с восточной околицы (фото Е. Келарева (Онега), апрель 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.118 - Деревня Кондратьевская - Кондратовская - Погост - Кондратьевское (Ворзогорский Погост) - Ворзогорская - Ворзогоры Онежского района Архангельской области. Никольский храм на ноябрь 2009 г. Сезон 2009 г. (автор неизвестен, ноябрь 2009 г.) [82, фото].

Рисунок 2.119 - Деревня Кондратьевская - Кондратовская - Погост - Кондратьевское (Ворзогорский Погост) - Ворзогорская - Ворзогоры Онежского района Архангельской области. Никольская церковь, состояние на 25.12.2009 г. (фото СГ, 25 декабря 2009 г.) [82, фото].
Также необходимо упомянуть о сведениях, представленных на портале «Onegaonline.ru» в виде набора фотографий общего вида деревни Яковлевская - Ворзогоры и деревянной Зосимо-Савватиевской церкви, построенной в 1850 году на деревенском кладбище на расстоянии около 200 м к юго-западу от деревни (рисунки 2.120-2.123) [82, фото].

Рисунок 2.120 - Деревня Яковлевская - Ворзогоры Онежского района Архангельской области. Фрагмент застройки. Фото апреля 2008 г. (фото неизвестного автора, апрель 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.121 - Деревня Яковлевская - Ворзогоры Онежского района Архангельской области. Часть жилой застройки. Вид с юга (фото Е. Келарева (Онега), апрель 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.122 - Деревня Яковлевская - Ворзогоры Онежского района Архангельской области. Зосимо-Савватиевская кладбищенская церковь (1850г.). Вид с востока (фото Е. Келарева (Онега), апрель 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.123 - Деревня Яковлевская - Ворзогоры Онежского района Архангельской области. Вид с колокольни Зосимо-Савватиевской кладбищенской церкви (фото Е. Келарева (Онега), апрель 2008 г.) [82, фото].
Сведения о селе Ворзогоры содержатся также на портале «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» («Old.voopik.ru») в разделе «Культурное наследие Онежского района под общественным контролем ВООПИиК» [64]. «18 февраля 2008 года председатель Онежской районной организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (Онежский ВООПИиК) Владимир Богданов в целях контроля за состоянием объектов культурного наследия расположенных на территории Онежского района совершил поездку в с. Ворзогоры, которое находится в 25 км. от исторического города Онега.
Село Ворзогоры расположено на мысе Ворзогорский Онежской губы Белого моря. В этом старинном селе имеются 4 памятника архитектуры, состоящих на государственной охране: Церковь Зосимы и Савватия на местном кладбище, а также уникальный культовый комплекс: колокольня 1862 года, Церковь Введенская (1793 г.) и Церковь Никольская (1636 г.).
Обследуя памятники истории и культуры, Владимир Богданов сообщил, что первая часовня находится в удовлетворительном состоянии, по внешним признакам видны следы ремонта входной двери, кровли без нарушения архитектурных особенностей объекта.
Но, к сожалению, следует отметить, что культовый комплекс мало напоминает исторический вид, после проведенных в 1986-1987 годах ремонтно-восстановительных работ, все три здания обшиты не струганными досками, кресты не сохранились. При выборочном опросе немногочисленного коренного населения обращает внимание тот факт, что государство пока не проявляет заботы в сохранении памятников истории и культуры в этом историческом поморском селе, правда следует отметить, что усилиями самих местных жителей установлен поклонный крест поморам которые погибли в Белом море, есть также и своеобразный памятник в виде огромного камня, обнесенного оградой - это дань уважения отважному капитану Поспелову, уроженцу села Ворзогоры.
Общий вывод, который сделали Онежские ВООПИКовцы, говорит о том, что после проведенных работ без учета архитектурных особенностей исторические памятники потеряли свой первоначальный вид. На памятниках отсутствуют охранные доски, указывающие дату постройки и что они находятся под охраной государства.
Онежским отделением ВООПИиК в администрацию района будет внесено предложение об изготовлении охранных и информационных досок для уникальных памятников архитектуры, которые еще сохранились на территории Онежского района.
Владимир Богданов. Онежская районная организация ВООПИиК. 21.03.2008» [64].
В перспективе Ворзогорская групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.1.4 Каменно-Ощиринская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
Каменно-Ощиринская групповая система населенных мест находится в южной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 63 км к югу от районного центра - города Онеги и на расстоянии 8 км к северо-востоку от деревни Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская - административного центра Устькожской сельской администрации.
Каменно-Ощиринская ГСНМ расположена в излучине правого большого рукава реки Онеги и состоит из деревни Каменное - Каменьская - Каменская - Каменно (1), находящейся на левом (восточном) берегу, и деревни Октябрьская - Ощиринская - Ощеринская - Оширинская - Малая сторона - Малое Карамино, находящейся на правом (западном) берегу реки Онеги, чуть выше впадения в нее с севера реки Нюльнюги (2). Через деревню Каменное - Каменьская - Каменская - Каменно проходит транзитная гужевая дорога, идущая от деревни Карамино - Кондратовская к деревне Мондино (дд. Воронинская - Вороницкая - Воржинское (на острове р. Онеги) - Воронинская - Мондина и Мондино - Владыченская), а через деревню Октябрьская - Ощиринская - Ощеринская - Оширинская - Малая сторона - Малое Карамино пролегает транзитная гужевая дорога, идущая от деревни Андреевская - Низ - Андривская (рисунки 2.1-2.4, 2.83, 2.124-2.131) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 22; 57, карта; 82, карты].

Рисунок 2.124 - Деревня Каменное - Каменьская - Каменская - Каменно (фрагмент карты «Онежский район Северной области», масштаб 1:500000, изд. ГУГСиК, НКВД СССР, 1937 г.) [82, карта].
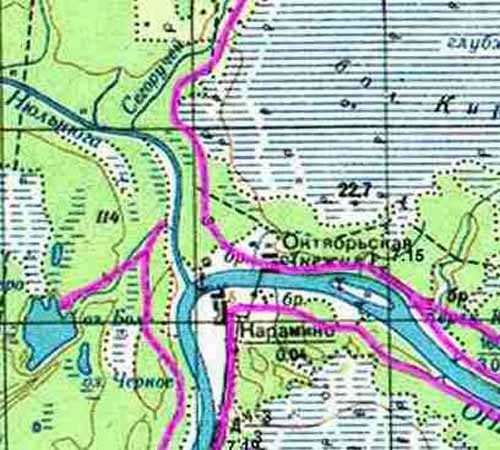
Рисунок 2.125 - Деревня Карамино - Кондратовская Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1970-х гг.) [82, карта].

Рисунок 2.126 - Деревня Мондино (дд. Воронинская - Вороницкая - Воржинское. (на острове р. Онеги) - Воронинская - Мондина и Мондино - Владыченская) Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1970-х гг.) [82, карта].
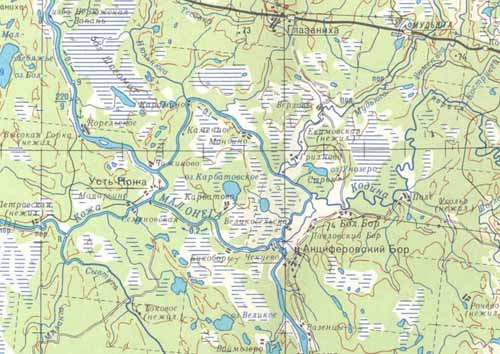
Рисунок 2.127 - Деревня Каменное - Каменьская - Каменская - Каменно Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1991 г.) [57, карта].
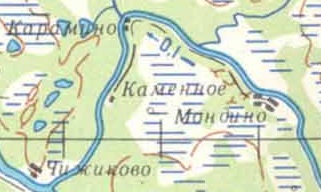
Рисунок 2.128 - Деревня Каменное - Каменьская - Каменская - Каменно Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1991 г.) [57, карта].
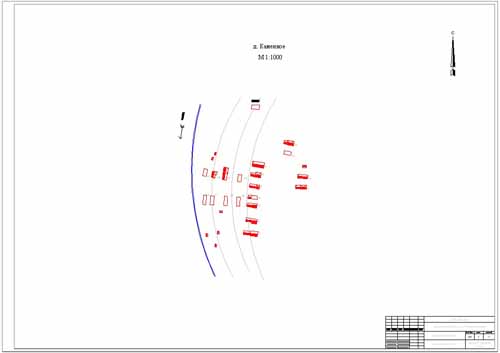
Рисунок 2.129 - Деревня Каменное - Каменьская - Каменская - Каменно, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
На период полевых работ Историко-архитектурной экспедиции Петрозаводского государственного университета 1987 года в деревне Каменное - Каменьская - Каменская - Каменно насчитывалось 12 жилых домов, а 7 домов к этому времени были уже утрачены. В свою очередь в деревне Октябрьская - Ощиринская - Ощеринская - Оширинская - Малая сторона - Малое Карамино в этот период времени насчитывалось 13 жилых домов.

Рисунок 2.130 - Деревня Каменное - Каменьская - Каменская - Каменно (фрагмент топографической карты 1970-х гг.) [82, фото].

Рисунок 2.131 - Деревня Каменное - Каменьская - Каменская - Каменно. Ильинская церковь, 1911-1914 г. Освящение церкви в августе 1914 года (фонды Онежского краеведческого музея) (фото К.В. Овчинникова, август 1914 г.) [82, фото].
«На этом фото, хранящемся в фондах Онежского музея, запечатлен момент освящения в августе 1914 года Ильинской церкви в деревне Каменное, бывшего Мондинского прихода. Автор снимка - житель деревни Кузьма Васильевич Овчинников.
Храм был заложен 20 июля 1911 года на средства прихожан. Лес на постройку заготовляли по берегам р. Нерюги (Нюльнюги) и сплавляли к деревне. Бревна к месту строительства вручную всей деревней затаскивали по лоткам, сколоченным из досок. Дети эти лотки поливали водой для лучшего скольжения. Рубили храм деревенские плотники: Федор Иванович и Василий Федорович Рассказовы, Алексей Иванович Каменев, Василий Григорьевич и Яков Григорьевич Каменевы, Михаил Петрович Каменев, Алексей Иванович и Николай Иванович Овчинниковы и другие.
Иконы, колокола и утварь частью куплены на собранные деньги, частью приняты в дар. Иконы написаны монахинями подворья Сурского монастыря (село Сура на р. Пинеге) в Архангельске, а иконостас, по воспоминаниям старожилов, изготовлен местными столярами Овчинниковыми.
Храм действовал до закрытия в 1967 году. Последний священник - о. Константин Павлович Разов. На 1920 год в деревне проживал 141 житель, дворов - 23. Их традиционные занятия: земледелие (выращивали ячмень, овес, озимую рожь, лен), скотоводство, Как и в любой другой деревне были свои плотники, столяры, сапожники, кузнецы. Были…
Деревня находится на острове, образованном рукавами р. Онеги - Большой и Малой. До открытия пассажирского автобусного сообщения от г. Онеги до с. Городок (Прошково) весь этот маршрут обслуживали т\х «Заря», в том числе и жителей д. Каменное. 31 км речной глади отделяет ее от пристани Порог.
В настоящее время деревня опустела. У автора нет информации, проживает ли там кто-то летом. Тем более «Заря» заходит теперь только в д. Чижиково (25 км от Порога) и в д. Усть-Кожа (28 км, Каменное, с другими деревнями по Большой Онеге, остались в стороне от «цивилизации»). Правда, недавно узнал, что «Заря» по просьбе может высадить пассажиров в начале острова, выше д. Чижиково, а дальше - пешком.
В зимнее время дорога проминается (с намораживанием переправы через р. Онегу) только до д. Усть-Кожа. Но вот в прошлый, 2007 г., в январе месяце, в эту деревню пришлось продукты закидывать вертолетом МЧС: не было морозов. Так что прилетайте к нам в гости на вертолете - надежнее» [82].
Дополнить приведенную выше характеристику позволяют также статистические данные, опубликованные на портале «Onegaonline.ru» в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [82].
Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о деревне Каменьская (Каменская), правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 233; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о деревне Каменская, в которой на этот момент насчитывалось 11 дворов, в которых проживало 81 человек (38 - мужского и 43 - женского пола) [82; 92, с. 42].
В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о деревне Каменская (Каменно). В этот период времени деревня относилось к Мардинской волости Мондинского сельского общества и соответственно к Мондинскому церковному приходу. Количество жилых дворов на данный момент составляло 18 единиц. Количество населения: мужского пола - 76, женского пола - 55 (всего 131 человек) [14, с. 170-171; 82]. А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о деревне Каменская (Каменно). В данное время деревня относилась к Мудьюжской волости Мондинского сельского общества и в это время в ней насчитывалось 23 двора, в которых проживал 141 человек обоего пола [82; 83, с. 16].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» имеется упоминание о деревне Каменская и по переписи 1920 года в ней насчитывалось 26 дворов, а количество населения: мужского пола - 45, женского пола - 66 (всего 111 человек) [82; 94, с. 82]. В результате укрупнения волостей в 1924 году деревня Каменская вошла в состав Чекуевской волости Онежского уезда [82; 95, с. 28-29].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о деревне Каменное, входящей в состав Мондинского сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 345; 82].
Дополнить приведенную выше характеристику позволяют фотоиллюстративные материалы, опубликованные на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Каменное» [82]. При этом известно, что одна фотография с изображением закладной надписи хранится в музее города Онеги, три фотографии сняты А.Я. Венедиктовым (Онега) в 1968 году и четыре фотографии выполнены Н. Сидоровой (Онега) в июне 2008 года (рисунки 2.132-2.139) [82, фото].

Рисунок 2.132 - Деревня Каменное - Каменьская - Каменская - Каменно. Ильинский храм. Закладная церковная надпись. Хранится в фондах музея г. Онеги [82, фото].

Рисунок 2.133 - Деревня Каменное - Каменьская - Каменская - Каменно. Ильинский храм (1911-1914 гг.). Вид с юга (фото А.Я. Венедиктова (Онега), 1968 г.) [82, фото].

Рисунок 2.134 - Деревня Каменное - Каменьская - Каменская - Каменно. Колокольня Ильинского храма. Вид с юга (фото А.Я. Венедиктова (Онега), 1968 г.) [82, фото].

Рисунок 2.135 - Деревня Каменное - Каменьская - Каменская - Каменно. Ильинский храм внутри. Хранительница традиций (фото А.Я. Венедиктова (Онега), 1968 г.) [82, фото].

Рисунок 2.136 - Деревня Каменное - Каменьская - Каменская - Каменно. Общий вид с реки (фото Н. Сидоровой (Онега), июнь 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.137 - Деревня Каменное - Каменьская - Каменская - Каменно. Северная окраина деревни с церковью (фото Н. Сидоровой (Онега), июнь 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.138 - Деревня Каменное - Каменьская - Каменская - Каменно. Ильинский храм с севера (фото Н. Сидоровой (Онега), июнь 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.139 - Деревня Каменное - Каменьская - Каменская - Каменно. Ильинский храм с северо-запада (фото Н. Сидоровой (Онега), июнь 2008 г.) [82, фото].
Характеризуя Каменно-Ощиринскую групповую систему населенных мест, следует упомянуть о работе краеведа Г.Б. Дерягина «Окрестности Онеги», опубликованной на портале «Sudmed-nsmu.narod.ru» [25]. В своей работе ее автор писал, что «вскоре, после захода в рукав под названием Большая Онега, перед нами открывается вид на деревню Каменскую, расположенную на острове. В 1896 году здесь был 21 двор, и жило 106 человек. Мало что сохранилось от этой деревни, постоянных жителей здесь нет. Ранее здесь была небольшая однопрестольная церковь Святой Мученицы Параскевы Пятницы, которая стояла почти на берегу реки, на горке в окружении стройных деревьев. В 1911 году на этом месте была освящена новая церковь в честь Пророка Ильи. Она сохранилась до сих пор, поэтому здесь стоит сделать остановку, чтобы насладиться красотой церквушки и местности. Сама церковь деревянная, клетская, довольно изящная, но внутри ее пусто и радует глаза лишь двухступенчатая солея перед алтарной частью (рисунок 2.140) [25, фото].

Рисунок 2.140 - Церковь Св. апостола Ильи в д. Каменка (освящена 20.07.1911 г.) (фото Б.Г. Дерягина, 1990 г.) [25, фото]
Дополнить приведенную выше характеристику позволяют статистические данные, опубликованные на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Октябрьская», в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [82]. Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о деревне Ощиринская, правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 234; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о деревне Ощеринская (Оширинская), в которой на этот момент насчитывалось 14 дворов, в которых проживало 74 человека (37 - мужского и 37 - женского пола) [82; 92, с. 42].
В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о деревне Ощиринская (Малая сторона). В этот период времени деревня относилось к Мардинской волости Мондинского сельского общества и соответственно к Мондинскому церковному приходу. Количество жилых дворов на данный момент составляло 20 единиц. Количество населения: мужского пола - 51, женского пола - 76. (всего 127 человек) [14, с. 170-171; 82]. А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о деревне Ощиринская (Малая сторона). В данное время деревня относилась к Мудьюжской волости Мондинского сельского общества и в это время в ней насчитывалось 24 двора, в которых проживало 111 человек обоего пола [82; 93, с. 16].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» имеется упоминание о деревне Оширинская (Малая сторона). В данное время деревня относилась к Мудьюжской волости Лукинского сельского общества, а по переписи 1920 года в ней насчитывалось 22 двора, а количество населения: мужского пола - 37, женского пола - 50 (всего 87 человек) [82; 94, с. 82]. В результате укрупнения волостей в 1924 году деревня Оширинская вошла в состав Чекуевской волости Мондинского сельского общества Онежского уезда [82; 95, с. 28-29].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о деревне Октябрьская, входящей в состав Мондинского сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 345; 82].
Дополнить приведенную характеристику позволяет также две фотографии общего вида деревни Октябрьская - Ощиринская - Ощеринская - Оширинская - Малая сторона - Малое Карамино, представленные на портале «Onegaonlineю.ru», одна из которых выполнена неизвестным автором в 1978 году, а вторая - Н. Сидоровой (Онега) в июне 2008 года (рисунки 2.141-2.142) [82, фото].

Рисунок 2.141 - Деревня Октябрьская - Ощиринская - Ощеринская - Оширинская - Малая сторона - Малое Карамино. Общий вид (автор съемки неизвестен, 1978 г.) [82, фото].

Рисунок 2.142 - Деревня Малое Карамино (Октябрьская). Находится почти напротив (чуть выше по течению р. Б. Онега) деревни Карамино. До 1917 г. называлась Оширинская. (фото Н. Сидоровой (Онега), июнь 2008 г.) [82, фото].
Интерес также представляют сведения, опубликованные на портале «Малые Острова России» в разделе «Острова деревянные» [65]. «После разделения Онеги и до впадения Мудьюги островной берег нежилой, но дома, видимо, используются рыбаками. Света у них нет. В деревне Мондино света нет, но есть два-три относительно жилых дома. Кирилловская у Шомборучья нежилая, виден сгнивший сруб и вроде целый сруб бани - возможно, охотничий домик. Октябрьская без света, но жилая. Карамино и Каменное жилые. Чижиково на слиянии Онеги жилое, Корельское тоже. Через пару километров после Корельского становится видно сотовую вышку в Пороге. Соответственно, есть связь. Церковь в Мондино: чуть не в лучшем состоянии из всех построек деревни, церковь в Каменном: скрыта зеленью, в хорошем состоянии, церковь на Жеребцовой Горе: стоит, красивая. Все фотографии: Ссылка на альбом. Зарегистрирован: 26.02.2006» [65].
Сведения об Ильинской церкви можно также найти в монографической работе искусствоведа Т.М. Кольцовой «Иконы Северного Поонежья» [33, с. 201].
В перспективе Каменно-Ощиринская групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.1.5 Карельско-Высокогорская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
Карельско-Высокогорская групповая система населенных мест находится в центральной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 40 км к югу от районного центра - города Онеги и на расстоянии 15 км к северо-западу от деревни Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская - административного центра Устькожской сельской администрации.
Карельско-Высокогорская ГСНМ расположена в излучине реки Онеги, в 12 км ниже по течению от деревни Чижиково - Чижиковская - Чириковская - Чижиково - Чижиково на р. Онеге, а в состав ее входят деревни Корельское - Корельская - с. Корельское (1) и Высокая Горка (2). Первая деревня расположена на правом (восточном), а вторая - на лево (западном) берегу реки Онеги (рисунки 2.1, 2.2. 2.4, 2.5, 2.83, 2.143-2.147) [4; 5 с. 94; 6; 7; 8; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 22; 43, с. 172, рис. 35.3; 45, с.154, рис.4.3, с. 157; 57, карты]. На период полевых работ Историко-архитектурной экспедиции Петрозаводского государственного университета 1987 года в деревне Корельское - Корельская - с. Корельское насчитывалось 30 жилых и два утраченных дома, а деревня Высокая Горка уже на период 1970-х годов значилась как нежилая [82, карта].
Архитектурно-типологическое описание планировки и застройки Карельско-Высокогорской ГСНМ, содержащееся в формуле «К1/1(1)(01.3->01.2), ПК1/1, Т2/1, ПТ1, В2/1(2), ПВ3/2(1)(01.1)(02.1), Р1», приведено в приложении А и в таблице Б.1.

Рисунок 2.143 - Деревня Корельское - Корельская - с. Корельское Онежского района Архангельской области (фрагмент карты на портале «Onegaonline.ru») [82, карта].

Рисунок 2.144 - Деревня Корельское - Корельская - с. Корельское Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1970-х гг.) [82, карта].
Также необходимо отметить, что деревня Корельское - Корельская - с. Корельское является достаточно древним поселением, поскольку в свое время под названием Корелское оно было зафиксировано на карте под названием «Положение мест между городом Архангельском, Санкт-Петербургом и Вологдой», изданной в 1745 году и опубликованной на портале «Onegaonline.ru» (рисунок 2.148) [82, карта].

Рисунок 2.145 - Деревня Корельское - Корельская - с. Корельское Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1991 г.) [57, карта].
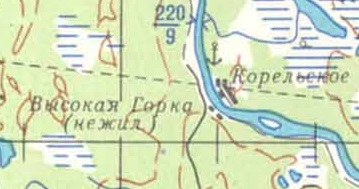
Рисунок 2.146 - Деревня Корельское - Корельская - с. Корельское Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1991 г.) [57, карта].
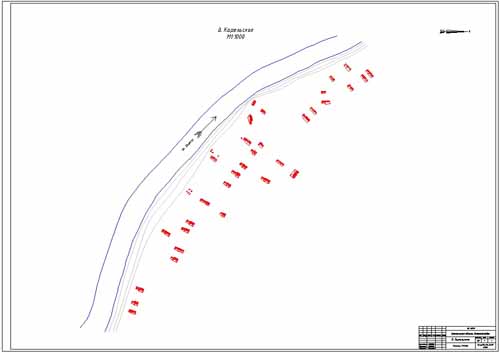
Рисунок 2.147 - Деревня Корельское - Корельская - с. Корельское, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.

Рисунок 2.148 - Фрагмент карты «Положение мест между городом Архангельском, Санкт-Петербургом и Вологдой», изданной в 1745 году [82, карта].
Дополняя выше приведенную характеристику Карельско-Высокогорской групповой системы населенных мест, следует, во-первых, упомянуть о сведениях из «Краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской епархии» 1896 года [36], согласно которым становится известно, что «приход состоит из одного с. Корельское, расположенного на правом берегу р. Онега, в 257 верстах от г. Архангельска, в 17 в-ах от Порожскаго и в 12 в-ах от Кожскаго приходов. Жителей в нем на 1.01.1995г.: 206 муж. п. и 199 жен. п. До 3 мая 1894 г. с. Корельское входило в состав Порожскаго прихода, а с этого времени был образован самостоятельный приход. По рассказам местных старожилов, на месте с. Корельское были вотчины Крестнаго монастыря; но с какого времени монастырь перестал ими пользоваться - неизвестно.
В описываемом приходе одна церковь, деревянная, устроенная в 1857 г. усердием местных прихожан, до 1894 г. была приписной к Порожскому приходу, освящена в 1859 г. священником Мондинскаго прихода о. Василием Рожиным. В устройстве церкви денежную помощь особенно оказали крестьяне: Василий Савинов и Никифор Ладкин (Лыткин - ?), ныне уже умершие.
Престолов в ней два: холодный, в честь Успения Б. Матери, теплый, в честь Св. Великомученика Георгия Победоносца. Придельный храм в 1895 г. расширен на средства Кронштадскаго пастыря о. Иоанна Ильича Сергиева, пожертвовавшаго 100 р., и прихожан. Церковь эта деревянная, одноглавая, в форме креста, в одной связи с колокольней, на каменном фундаменте, снаружи обшита тесом и окрашена, глава и крыша обиты железом и окрашены. Утварью и богослужебными книгами церковь достаточна, а ризницей скудна. Содержится она на свечной и кошельковый доход; того и другого в 1895 г. поступило 44 руб. 85 к.
На содержание причта положено жалования: священнику - 400 р. в год, псаломщику - 125 р., капиталов в пользу причта нет. Доход за требы в 1895 г. составил на причт около 200 р. Пашни причт имеет около 1500 кв. саженей и около 2 десятин сенокоса. Дом у причта один, в нем живет священник, а псаломщик помещается в наемной квартире от прихожан.
На расстоянии 1 версты от церкви находится деревянная часовня во имя Нерукотворнаго Образа Спасителя, построенная на сельском кладбище в 1886 г. на средства прихожан» [25; 82].
Дополнить приведенную выше характеристику позволяют также статистические данные, опубликованные на портале «Onegaonline» в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [82]. Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о деревне Корельское, правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 234; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о селе Корельское (д. Корельская), в котором на этот момент насчитывался 31 двор, в которых проживало 239 человек (108 - мужского и 131 - женского пола) [82; 92, с. 43].
В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о деревне Корельская. В этот период времени деревня относилось к Кокоринской волости Корельского сельского общества и соответственно к Корельскому церковному приходу. Количество жилых дворов на данный момент составляло 71 единицу. Количество населения: мужского пола - 229, женского пола - 224 (всего 453 человека) [14, с. 170-171; 82]. А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о деревне Корельская и в ней насчитывалось 96 дворов, в которых проживало 470 человек обоего пола [82; 93, с. 14].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» имеется упоминание о селе Корельское и по переписи 1920 года в нем насчитывалось 93 двора, а количество населения: мужского пола - 170, женского пола - 252 (всего 422 человека) [82; 94, с. 78]. В результате укрупнения волостей в 1924 году село Корельское вошло в состав Онежской волости Онежского уезда [82; 95, с. 28-29].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о деревне Корельская, входящей в состав Корельского сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 345; 82].
Упоминание о деревне Корельское содержится также в работе краеведа Г.Б. Дерягина «Окрестности Онеги», опубликованной на сайте «Sudmed-nsmu.narod.ru» [18]. «В Пороге сделаем пересадку на теплоход «Заря» и отправимся на нем вверх по реке. Первым нам встретится село Корельское. Еще в XIX веке в нем было 405 жителей, сейчас же село почти полностью заброшено. Церковь одна, построена в 1857 году, имеет два престола: Успения Богоматери и Св. Великомученика Георгия Победоносца. Церковь сохранилась до сих пор. Стоит она на каменном фундаменте, одноглавая, деревянная в форме креста, посредством трапезной связана с колокольней, ныне утраченной. В одной версте от церкви на кладбище имеется деревянная часовня во имя Спасителя Нерукотворного, построена в 1886 году» [25].
Интерес также представляют фотографии, опубликованные на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Корельское» с изображением деревянной церкви, построенной в 1857 году (автор и дата съемки неизвестны) и в разделе «Деревня Высокая Горка» с видом на деревню Корельская (сентябрь, 1974 года) (рисунки 2.149-2.150) [82, фото].

Рисунок 2.149 - Деревня Корельское - Корельская - с. Корельское Онежского района Архангельской области. Церковь с холодным престолом в честь Успения Божьей Матери и с теплым престолом в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца, построенная в 1857 году, освещенная в 1859 году и расширенная в 1895 году (автор и дата съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.150 - Деревня Высокая Горка (на заднем плане - деревня Корельская) (автор съемки неизвестен, 09.1974 г.) [82, фото].
Сведения о селе Корельское содержатся также на портале «Православные приходы и монастыри Севера» («Parishes.mrezha.ru») [70]. «Корельский приход. Современное местоположение: Порожское с/п, Онежский р., Архангельская обл. Историческое местоположение: Онежский уезд, Архангельская губерния.
Приход состоял из одного села Корельского. Он был образован 3 мая 1894 г., до этого село входило в состав Порожского прихода. По преданию, на месте с. Корельского были вотчины Крестного монастыря. Церковь была построена в 1857 г., освящена в 1859 г. Денежную помощь при строительстве оказали крестьяне Василий Савинов и Никифор Латкин. Престолы: в холодной церкви - в честь Успения Божией Матери, в теплой - придельный в паперти в честь вмч. Георгия. Придельный храм в 1895 г. расширен на средства о. Иоанна Сергиева (св. Иоанн Кронштадтский), пожертвовавшего 100 руб., и прихожан.
Часовня во имя Нерукотворного Образа Спаса располагалась в 1 версте от церкви, на сельском кладбище. Построена в 1886 г. на средства прихожан. Библиография: Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Вып. 3 - Архангельск, 1896. - С. 53-55 [36, с. 67-70]» [70].
В перспективе Карельско-Высокогорская групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.1.6 Кушерецкая ГСНМ, Малошуйская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область.
Кушерецкая ГСНМ находится в северной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 103 км к западу от районного центра - города Онеги и на расстоянии 23 км к северо-западу от рабочего поселка Малошуйка - административного центра Малошуйской поселковой администрации.
Кушерецкая ГСНМ расположена по обоим берегам Кушереки, впадающей с запада в губу Нименьга Белого моря, образовалась в результате срастания погоста Кушерецкого с деревнями Кузминская и Логиновская (в прошлом - из деревень Гора (1), Низ - Лахта (2) и Низ Ручей (3), находящихся на правом берегу реки, деревни Остров (4) и деревень Верховье (5), Крюк (6) и Бачинская (7), расположенных на левом берегу реки) (рисунки 2.1, 2.30, 2.151-2.152) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 22; 82, карта; 107, с. 13, рис. 1; 44, с. 27, 161-162, прим. 26 и 27; 43, с. 128, рис. 17.2].
Архитектурно-типологическое описание планировки и застройки Кушерецкой ГСНМ, содержащееся в формуле «К1/2(2)(01.7->01.1), ПК1/1, Т3/2(1), ПТ2, В4:[В2/1(2)+В3/1(3)], ПВ5:[ПВ2/2(1)(01.1)(02.1)->ПВ1], Р1» приведено в приложении А и в таблице Б.1.
Дополняя выше приведенную характеристику Кушерецкой ГСНМ, следует также упомянуть о сведениях из «Краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской епархии». 1896 года, согласно которым становится известно, что Кушерецкий приход «находится в 293–х верстах от г. Архангельска, в 61 версте от г. Онеги, в 16 в-х от Малошуйскаго и в 30 в-х от Унежемского приходов. Расположен на острове, образованном рукавами р. Куша, при ее впадении в Онежский залив Б. Моря. В состав прихода входит одно с. Кушерека, в котором на 1894 г. было 264 двора, проживало 666 душ м.п. и 848 - ж.п. Прихожане, особенно женщины, в значительной степени заражены расколом, проникшим сюда, вероятно, из Соловецкаго м-ря в 17 в. и с берегов р. Выг и Выгозера. Приходской храм стоит на другом б-гу реки, сообщение с ним во время ледохода затруднено.
Когда образовался приход и кто были его первые поселенцы - неизвестно. Судя же по Грамоте (копия в Памятной книге прихода) Афанасия, архиепископа Холмогорскаго и Важского на имя Соловецкаго архимандрита Фирса, келаря Иннокентия и казначея Варсонофия от 7204 г.(1696 г.) о строительстве новой Успенской ц-ви вместо прежней, неизвестно когда построенной и затем сгоревшей, можно полагать, что описываемый приход существовал издавна и был вотчиной Соловецкаго м-ря. Еще и теперь (на 1894 г.) старожилы помнят о монастырских постройках, от которых не сохранилось никакого следа.

Рисунок 2.151 - Карта-схема Русского Севера с основными путями ее освоения и показанием обследованных селений (1 - территории Новгородских пятин по К.А. Неволину; 2 - территории Ростовского и Московского и освоения в XIII-XIV вв.; 3 - пути новгородского освоения Севера; 4 - пути ростовского и московского освоения [107, с. 13, рис. 1].

Рисунок 2.152 - Храмовый комплекс поморского села Кушерека (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
Упомянутая Успенская ц-вь была освящена Соловецким архимандритом Фирсом с несколькими иеромонахами и иеродиаконами 3 авг. 1700 г. и существовала до 3 апр. 1811 г., когда сгорела. Одновременно с первой Успенской церковью, сгоревшей в 17 в., в Кушерецком приходе был другой храм - в ч. Вознесения Г-ня, построенный в 1669 г., по всей вероятности, самими прихожанами с помощью Соловецкаго м-ря. Существует предание, что перед постройкой его вышел спор между жителями о том, где строить. Не достигнув согласия, они спустили первое бревно по реке и порешили строить ц-вь там, где это бревно прибьет к берегу. Так и выбрано было место постройки храма.
Храм этот был в начале холодным, но после того как сгорела в 1811 г. Успенская ц-вь (теплая), в 1826 г. к трапезной Вознесенской ц-ви были прирублены пристройки с северной и южной сторон. В южной пристройке был устроен придел во имя Успения Пресвятой Б-цы, освященный 30 дек. 1830 г. Пристройка с севера долгое время служила кладовой, и только в 1860 г. была приспособлена для придела во имя Богоявления Г-ня, освященного 15 дек. 1860 г. тогдашним благочинным о. Иоанном Поповым при участии священников: о. Александра Васильева, о. Василия Дмитриева, о. Михаила Василевскаго и о. Василия Кононова.
В верхнем этаже первоначально было 2 престола: Св. пророка Ильи и Св. ВЛКМ-цы Параскевы. Места было мало для служения. В 1881 г. эти 2 храма были объединены в один, а алтарь их был помещен в куполе (бочке - ? –С.Г.), так что места для молящихся стало больше. Теперь, после переделки, стало вместо четырех три придела: в нижнем этаже один - Успенский, другой - Богоявленский, в верхнем этаже - один, в ч. Пророка Ильи и ВЛКМ-цы Параскевы.
Придельные храмы, увеличив ширину церковнаго здания, изменили первоначальную 4-угольную форму Вознесенской ц-ви. Алтарь выступает из главного здания 4-угольником, закрыт он «бочкой»; средняя часть храма - кубоватая, с 5-ю главами; трапезная и приделы крыты простой крышей на 2 ската. Не так давно вся ц-вь была обшита тесом и окрашена белилами; но теперь (на 1894 г.), вследствие осадки здания, обшивка коробится, а окраска совсем облезла. Крыша над приделами, не будучи окрашена, положительно сгнила и пропускает течь в ц-вь.
В главном храме - Вознесения Г-ня - иконостас 4-ярусный, деревянный, простой работы, крашеный. Только Царские врата, колонны у них и у Храмовой иконы Вознесения Г-ня - резные, позолоченные на мардане (?). Стены в алтаре и средней части храма обтесаны и оклеены обоями. В придельных храмах иконостасы деревянные, 2- ярусные, простой столярной работы, крашены; потолок поддерживается 5-ю столбами.
В настоящее время ц-вь нуждается в срочном ремонте - как с внешней стороны, так и изнутри; средств же на это нет никаких: ни капиталов, ни каких-либо имений ц-вь не имеет. Единственные средства содержания ее: кружечный сбор (до 30 р.) и свечная торговля (до 3,5 пуда в год), но этих средств с трудом хватает на решение насущных потребностей (покупка муки, вина, ладана и т.д.). Ц-вь также нуждается в утвари и ризнице. Есть церковная и противораскольническая библиотека, но книг мало. Из церковной утвари наиболее достойны внимания по древности: оловянный потир, с таковыми же принадлежностями, сделанный, судя по надписи, в Соловецком м-ре при архимандрите Геннадии в 1752 г.; напрестольное Евангелие Московской печати 1663 г., с подписью полууставом: « Дарю сию книгу Св. Евангелие в ц-вь Николы Чудотворца, старец Силивестр, постриженик Соловецкаго м-ря, по себе и по родителех.». С северо-запада от ц-ви стоит колокольня, устроенная в 1854 г., окруженная вместе с ц-вью деревянной оградой, ныне (1895 г.) уже полуразвалившейся.
Для поддержания церковных зданий в 1893 г. открыто церковно-приходское попечительство, располагавшее в 1894 г. 350-ю рублями. Для обучения детей 4 ноября 1861 г. открыто сельское 1-классное училище, в котором в 1893-94 уч. г. обучались: 41 мальчик и 7 девочек. Кроме того, существует мореходный класс для теоретического и практического ознакомления местных жителей с мореходным делом. Причт, состоящий из священника и псаломщика, имеет следующие источники содержания: жалование от казны - 200 р., доходы от требоисправления - до 200 р., пахотный и сенокосный участки земли в 6 десятин. Священник живет в общественном доме, построенном в 1890 г. и ещё не приведённом в порядок, а псаломщик – в наёмной от общества квартире.
Из служивших священников по Памятной книге 1822 г. известны следующие: о. Епимах Кононов - с 1694 по 1738 гг.; о. Михаил Кононов - с 1738 по 1756 гг.; о. Василий Кононов - с 1756 по 1788 гг.; о. Иоанн Кононов - с 1788 по 1821 гг.; о. Василий Кононов - с 1821 по 1846 гг.; о. Михаил Павловский - с 1846 по 1849 гг.; о. Василий Кононов (вторично) - с 1849 по 1852 гг.; о. Иоанн Плотников - с 1852 по1855 гг.; о. Иоанн Попов, временно, по ноябрь 1856 г.; о. Алексей Ежов - конец 1856г. - апрель 1859 г.; о. Александр Васильев - с 1859 по 1863 гг.; о. Пётр Тырыданов - с 1863 по 1866 гг.; о. Дмитрий Козмин - с 1866 по 1870 гг.; о. Евгений Синцов - с 1870 по 1873 гг.; о. Самуил Поликин - с 1874 по 1876 гг.; о. Андрей Покровский - с 1876 по 1882 гг.; о. Пётр Денежников - с 1882 по 1892 гг.. Ныне Священником состоит о. Авенир Титов, 25 л., студен семинарии, на службе с 1892 г. При нем псаломщиком - Михаил Титов, уволенный из 3-го класса дух-го училища, на службе с 8 авг. 1894 г.» [25; 82].
Интерес также представляют статистические данные, опубликованные на портале «Onegaonline» в разделе «Деревня Кушерека», в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [82]. Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о селе Кушерека (Кушерецкое), правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 234; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о погосте Кушерецкий, в котором на этот момент насчитывалось 15 дворов, в которых проживало 76 человек (32 - мужского и 44 - женского пола). В это же время в списках имеется упоминание о деревне Кузминская, в которой насчитывалось 75 дворов, в которых проживало 622 человека (274 - мужского и 348 - женского пола). Наконец, имеется также упоминание о деревне Логиновская (здесь находилась почтовая (Кушерецкая) станция), в которой насчитывалось 74 двора, в которых проживало 605 человек (268 - мужского и 337 - женского пола) [82; 92, с. 45].
В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о селе Кушерека. Количество жилых дворов в нем на данный момент составляло 295 единиц. Количество населения: мужского пола - 755, женского пола - 924 (всего 1679 человек). Село в это время относилось к Кушерецкой волости Кушерецкого сельского общества и соответственно к Кушерецкому приходу [14, с. 166-167; 82]. А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о селе Кушерека. В это время в селе насчитывалось 280 дворов, в которых проживал 1541 человек обоего пола [82; 93, с. 15].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» имеется упоминание о селе Кушерека (Лошновская и Кушерецкий погост), в котором по переписи 1920 года насчитывался 321 двор, а количество населения: мужского пола - 367, женского пола - 919 (всего 1286 человек) [82; 94, с. 79]. В результате укрупнения волостей в 1924 году, село Кушерека вошло в состав Поморской волости Онежского уезда [82; 95, с. 26-27].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о селе Кушерека в составе Кушерецкого сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 346; 82].
Дополнить приведенную выше характеристику поселения Кушерека позволяют сведения, представленные в капитальном труде академика И.Э. Грабаря «История русского искусства» [16; 17; 18; 19]. В главе «Кубоватые» храмы, подготовленной в соавторстве с архитектором Ф.Ф. Горностаевым, И.Э. Грабарь писал: «Трудно сказать, что вызвало появление того особого покрытия четырехгранного храма, которому присвоено название «куба». «Кубоватые» храмы встречаются, главным образом, в Онежском крае и древнейшие из них не восходят дальше половины XVII века. Одной из причин, повлиявших на возникновение этой формы, было отчасти и известное запрещение строить шатровые храмы. Отказаться окончательно и навсегда от шатра, слишком заветного и дорогого для северянина, строители были не в силах, и с половины XVII века заметно лихорадочное искание новых форм, так или иначе напоминающих и заменяющих шатер. Уже и бочечно-шатровые формы были заметной уступкой упорному давлению, шедшему из Москвы, но все же шатер был до известной степени спасен ценою пятиглавия. И народ полюбил этот новый храмовый тип, так как и шатер был цел, и бочки давно уже были ему близки и дороги. «Куб» явился, в сущности, еще более ловкой подменой шатра, окончательно усыпившей недреманное око взыскательных архиереев. Подтверждением такого предположения может служить то обстоятельство, что самая древняя из сохранившихся кубоватых церквей - церковь Параскевы Пятницы в Шуе Кемского уезда построенная в 1666 году (прим. * - «Краткое истор. опис. приходов и церквей Арханг. Епархии», вып. III, стр. 119 [36, с. 119]), имеет лишь одну главу, помещенную на сильно вытянутой верхушке самого куба. Издали эта изящная церковь кажется почти шатровой.
Такой одноглавый куб есть еще на Богоявленском приделе Троицкой церкви в Подпорожье Онежского уезда [ныне - Онежского района Архангельской области], построенной в 1725 году. Однако он уже сильно приплюснут и не напоминает шатра в такой степени, как Параскевинская Церковь в Шуе. Это объясняется, быть может, сравнительно более поздним временем его постройки (прим. ** - Там же, стр. 45. Церковь эта была построена на месте сгоревшей в 1724 году четырехпрестольной церкви, причем в указе Синода предписывалось рубить ее «с единым приделом, a четырех престолов не строить». Первоначально придела не было, и он появился только позже. Освящена церковь в 1726 г. (Стр. 46) (прим. 30 - 1726 год - явная опечатка в подлиннике. В подписи под фотографией церкви в I томе «Истории русского искусства» в качестве даты постройки Троицкой церкви в селе Подпорожье указаны 1725-1727 годы (М., Кнебель, [1910], стр. 403) [16, c. 403]. Она была построена по указу Синода, данному в 1725 году, и освящена 16 мая 1727 года («Краткое описание… Архангельской епархии», вып. III, стр. 45-46 [36, с. 45-46])). Одноглавая форма куба, несомненно, более логична, нежели пятиглавая, так как в ней еще определеннее, нежели в шатре, выражается масса купола, являющегося, в конце концов, исходной точкой той и другой формы. Возможно, что самый куб вырос из комбинации бочки и шатра, и, как форма, наиболее близкая к куполу, вероятно, вполне удовлетворял духовные власти. На его образование могли оказать известное влияние и украинские мотивы, впервые в это время появляющиеся на Севере. Широкое применение куба объясняется и, помимо указанных причин, вероятно, большей простотой строительных приемов. Здесь не нужна рубка «по круглому», более хлопотливая, не нужна и аккуратность, требуемая при рубке громоздких шатров. Правда, самая округлость куба довольно «заделиста», как говорят плотники, но и она несравненно проще, например, устройства соединений бочек с шатром в шатровом пятиглавом храме. Куб увенчивает почти всегда только храмы, рубленные четвериками, и исключения здесь в высшей степени редки. Таким редчайшим исключением является грандиозный храм Николая Чудотворца в Зачачье Холмогорского уезда [ныне - Холмогорского района Архангельской области], на Северной Двине (стр. 201). Он построен в 1687 году и по плану, по рубке стен его мощного восьмерика и по широкому размаху совершенно тождествен с лучшими восьмериковыми храмами - Паниловским и Вершиногеоргиевским. Но вместо шатра восьмерик его неожиданно завершается восьмигранным же «кубом», грани которого в верхней части постепенно переходят в круглую длинную шею, увенчанную главой. Едва ли можно допустить, что эта красивая, но слишком прихотливая и жеманная форма современна суровым архаическим стенам храма. Церковные клировые записи дают некоторое объяснение этого загадочного куба, явно навеянного той формой покрытия украинских церквей, которая известна под именем «бани». Оказывается, что в 1748 году в «верх» церкви ударила молния и расщепила его, не произведя, однако, пожара. Этот «верх», т.е. несомненно, шатер, был тогда же отстроен заново и тут-то, конечно, и получил свою затейливую форму (прим. * - Клировая ведомость за 1902 год).
Установка на кубе пяти глав не представляет никаких затруднений и притом легко исполнима согласно установившемуся порядку, т.е. по углам храма. Недаром кубоватые храмы обыкновенно пятиглавы, по крайней мере, в своей главной центральной массе. Такое пятиглавие мы уже видели в Троицкой церкви Подпорожья; пятиглавы и церкви Петра и Павла в Вирме Кемского уезда (прим. 31 - И.М. Мулло датирует Петропавловскую церковь в селе Вирме 1635 годом без ссылки на источник, добавляя, что « существует предположение, что верх церкви (средняя часть здания) переделан 1759 году». Это, по его мнению, послужило причиной, по которой некоторые исследователи считают 1759 за год ее основания (И.М. Мулло. Памятники и памятные места Карелии. Петрозаводск, 1963. с. 114 [49, с. 114]). Однако И.Э Грабарь опирается в датировке Вирменской церкви на «Краткое историческое описание церквей и приходов Архангельской Епархии», основанное на документальных источниках (вып. III, с.129-130 [36, c. 129-130]). Сохранившаяся в церкви доска с вырезанной на ней в 1630 голу надписью и иконостас XVII века могли попасть сюда из церкви, стоявшей на том же месте в более древнее время. По сведениям Мулло, таковая была построена еще в XV веке на средства Соловецкого монастыря (там же, стр. 114 [36, c. 114])) [ныне - Беломорского района Карельской области] и Вознесения в Кушереке Онежского уезда [ныне - Онежского района Архангельской области] (стр.202). Первая из них построена в 1759 году (прим. ** - «Краткое историческое описание приходов и церквей Арханг. Епархии», вып. III, стр. 20 [36, с. 20]) и довольно неуклюжа по формам, еще больше обезображенным грубой обшивкой; вторая почти на целое столетие древнее и, по клировой ведомости, построена в 1669 году (прим. *** - Клировая ведомость за 1902 год). Она также обшита, хотя несколько и лучше, и до сих пор не утратила своей стройности. Все ее детали, вне всякого сравнения, красивее, чем в Вирмской церкви. Угловые главки кубоватых храмов по большей части производят впечатление случайных декоративных придатков, не связанных с формой самого куба. В зависимости от большего или меньшего архитектурного инстинкта строителей главки то приткнуты так явно нелепо, как в Вирме, то при помощи особых кокошничков у подножия шей, как мы видим в Троицкой церкви Подпорожья, дают некоторую иллюзию хоть какой-нибудь логичности и конструктивности. Намерение симулировать последнюю еще яснее видно в Кушерецкой церкви, где все главы, как средняя, так и боковые, как бы покоятся на кокошниках или маленьких бочках-теремках.
Удобство применения к кубу пятиглавия способствовало дальнейшему развитию этого приема. Уже пятиглавие, примостившееся по углам, является переходом к многоглавию - конечной мечте благочестивых строителей. Пятиглавый куб при крестообразной форме плана дает уже такую оживленную группу девяти куполов, какую мы имеем в замечательной Преображенской церкви в Чекуеве Онежского уезда [ныне - Онежского района Архангельской обл.], построенной в 1687 году (прим. **** - В.В. Суслов, «Художеств. сокровища России». 1901, № 4, стр. 54 [97, с. 54]). Еще своеобразнее другая девятикупольная церковь - Владимирская в Подпорожье (прим. 32 - В настоящее время Владимирскую церковь в селе Подпорожье датируют 1757 годом (С. Забелло, В. Иванов, П. Максимов. Указ. соч., с. 147 [28, с. 147]). Упомянутая же И.Э Грабарем и Ф.Ф. Горностаевым дата соответствует году начала строительства, которое велось «в период времени от 1745 г. по 1757 г.». («Краткое историческое описание… Архангельской епархии», вып. III, стр. 46 [36, с. 46]). Приведенная в «Истории русской архитектуры» дата - 1743 год (м., 1956, стр. 333, 334) - не обоснована. Равным образом не обоснована и дата - 1741 г., данная вскоре после выхода в свет I тома «История русского искусства М.В. Красовским («Курс русской архитектуры», ч. I, Пг., 1916, стр. 278 [33, с. 278]) [Онежского района Архангельской области]. Она построена в 1745 году (прим. * - «Краткое историческое описание приходов и церквей Арханг. Епархии», вып. III, стр. 46 [36, с. 46]) по такому же крестчатому плану, но нижние ее главки врезаны не прямо в бочки, как в Чекуевской, а приподняты посредством шатров, на которые насажены шейки. Благодаря этому нижние главы теснее связались с общей группой куполов, и многоглавие церкви получило особенную выразительность.
Есть попытки достигнуть многоглавия и на самом кубе, как мы видим в большой церкви села Бережно-Дубровского Каргопольского уезда [ныне - Плесецкого района Архангельской области], построенной в 1678 году (прим. ** - В.В. Суслов, «Путевые заметки о севере России и Норвегии». Спб. 1889, стр. 71 [99, с. 71]). На кубе срублены по странам света четыре бочки, и на каждой из них насажено по главке, что вместе с угловыми и центральными главами дает девять глав, живописно разбросанных по кубу. Пусть форма «куба» только декоративна, пусть она не имеет никакого конструктивного оправдания, но отказать ей в живописности нельзя. Она особенно уместна там, где она является мотивом, объединяющим сложные группы церквей - целые погосты, кажущиеся сказочными затейливыми городками с несколькими десятками глав. Таков погост в посаде Турчасово Онежского уезда [ныне - Онежского района Архангельской области]. Преображенский девятиглавый храм построен в 1786 году в типе Кушерецкого, Чекуевского и других кубоватых храмов, - Благовещенский же (1795 год) интересен по своему оригинальному плану, очень выгодно подчеркивающему самостоятельность двух его приделов (прим *** - «Краткое историческое описание приходов и церквей Арханг. Епархии», вып. III, стр. 82 [36, с. 82] [Благовещенская церковь недавно сгорела]). Прием этот в общем напоминает прием двух епанчовых приделов в селе Павловском. Вместо епанчи они крыты кубами, притом сравнительно редкой одноглавой формы.
Необыкновенно суровое впечатление должны были производить такие сложные погосты в старину, когда все церкви стояли еще без тесовой обшивки. Теперь их нет уже больше, но лет 20 тому назад они местами еще доживали свой век, и один из них - в селе Шуе Кемского уезда [ныне - селе Шуерецком Беломорского района Архангельской области] В.В. Суслову удалось еще видеть и сфотографировать» [16; 17; 18, с. 199-203; 19].
Упоминания о церквях Кушерецкого прихода содержатся также в работе краеведа Г.Б. Дерягина «Окрестности Онеги», опубликованной на сайте «Sudmed-nsmu.narod.ru» [25]. Характеризуя культовое зодчество Архангельского Поонежья, Г.Б. Дерягин писал: «Семнадцатый век на Онеге был расцветом деревянного зодчества. В большом количестве возникали по берегам Онеги, ее притоков, по берегам малых рек, впадающих в море, церкви и часовни, срубленные без единого гвоздя. В центре сел, как правило, высился тройник. До сих пор эти архитектурные ансамбли поражают нас гармоничным единством с окружающей природой, непохожестью друг на друга, стройностью, изяществом. Тонкое художественное чутье северных мастеров проявлялось и при выборе места для постройки храма. В каждом случае это надо просто видеть. Но порой возводили церкви и на случайном месте, полагаясь на волю Божью. Бросали в реку бревно, и где его прибьет к берегу, там, значит, и церкви быть. Так было выбрано место для Кушерецкой церкви, которую уже в наше время перевезли из Онежского района в Малые Карелы.
В середине XVI века так определили место и для Прилукского погоста, что тоже в Онежском районе. Деревянное строительство в крае находилось в руках самого народа, и в нем особенно ярко проявились его архитектурные вкусы и традиции. Крестьяне сообща решали, какое строение им возводить, кому это дело доверить. Лес подбирали стройный, со¬сновый с мелкослойной, смолистой древесиной. Рубили его зимой, когда дерево «спит». Работали топором, так как пиленый лес легко впитывает влагу и быстро сгнивает, а у рубленого леса смолистые поры словно запечатаны смолой на века. Срубленные стволы всегда тесали, очищая их от сучьев и коры. Храмы или избы рубили без гвоздей, в «обло», т.е. с остатком выступающих концов бревен. При этом способе рубки бревна укладывали в округлые углубления возле их концов, которые выходили за пределы наружной плоскости стены. А чтобы закрыть поры, концы уложенных бревен еще «обтяпывали» топором. В «лапу», т.е. без выступа концов бревен рубили реже. В «лапу» стали рубить более в ХХ веке. С большим мастерством плотники делали пазы, врубки, потайные зубья, подгоняли бревна одно к другому так, что между ними невозможно было просунуть клинок ножа. Затем строение «мшили». К созданию храма подходили как к произведению искусства. Внешний объем храма часто превышает в 2-3 раза его внутренний объем. Нерационально, но красиво, для души. Храмы ставили на хорошо обозримых, чаще всего высоких местах. Они до сих пор оживляют и одухотворяют суровый северный пейзаж.
Несомненно, практическое назначение народных построек в старину всегда было связано с представлениями о красоте мира. Деревянный сельский храм был наиболее яркой и самобытной формой народного русского зодчества. С середины, особенно с конца XVII века деятельность народных зодчих перестает совпадать с установками официальной Православной церкви, боровшейся с мятежным духом «земщины», старавшейся регламентировать не только содержание, но и формы церковного строительства. Церковные реформы середины XVII века, наряду с усилением политической власти царя и патриарха, привели к массовому переселению недовольных на Север и в Сибирь. Переселенцы - раскольники рьяно придерживались древних традиций, бережно относясь к ним в быту и в искусстве. На северных просторах вольнолюбивый русский народ еще и в XVIII веке продолжал строить шатровые храмы и звонницы, трапезные при храмах, ставить деревянные, резные и раскрашенные изображения святых. Все это вызывало негодование официальной церкви, так как это не вписывалось в новые каноны Православия. Власти видели в этом отголоски язычества. Переселенцы отстаивали и отстояли свои утраченные в центральных регионах Руси права: право свободного передвижения, право земледельцев на обрабатываемую землю и покосы, на общинное самоуправление. То есть крепостного права на Русском севере и в Сибири не было. Лишь большевики отобрали у людей все права в советское время, разорив крестьянство, а значит - и всю страну.
В XVIII веке, начиная с 20-х годов, церковь утратила свою самостоятельность, превратившись, благодаря реформам Петра Первого, в бюрократическое государственное учреждение - синод. Контроль над ним вверили светскому лицу - обер-прокурору синода. К середине XIX века Православная церковь окончательно заземляется и обюрокрачивается. Внутреннее, духовное самосовершенствование не может быть результатом требования слепой веры в абстрактный, неосмысленный идеал. Изменение содержания духовной жизни неизбежно влекли за собой и изменения в строительных формах. Пренебрежение церковных властей к народным традициям привело к перестройке и даже уничтожению древних памятников, причем, перестройке не в лучшую сторону.
Так называемая «раскольничья» архитектура подверглась гонениям. С начала второй половины XIX века под предлогом ветхости было уничтожено большое количество старых деревянных часовен и церквей. В лучшем случае часовни перестраивались под церкви. Однако перестройка часовен и церквей искажала их первоначальный облик до неузнаваемости. Шатры сносились, заменялись куполами. Началась массовая постройка каменных церквей на месте и взамен сгоревших или сносимых деревянных храмов XVI-XVIII веков. Тогда же переделали практически все древние шатровые колокольни, заменив устремленные ввысь шатры приземистыми азиатскими куполами со шпилем на них. Получилось некрасиво, так как были нарушены пропорции, гармония. К тому же, в XIX веке почти все, некогда бревенчатые храмы обшили досками.
Сельские деревянные храмы в большинстве случаев несли не только культовую нагрузку, но были и общественным сельским центром. Галереи и трапезные служили местом для собраний-сходок, выполняли своего рода роль современных клубов и актовых залов. Здесь обсуждались чисто мирские дела, зачитывались указы и грамоты, происходили ритуальные, праздничные пиршества. Старики еще во времена моего детства говорили, что трехсотлетие Дома Романовых праздновалось в трапезных сельских храмов. В стенах сельских храмов крестьянский мир не только судил, осуждал, но и наказывал. Здесь же заключались и торговые сделки. Так сложился тип просторного трапезного зала с русской печкой, схожего с жилой крестьянской горницей, а его размеры издревле часто превышали размеры самого храма.
Шатровые, более древние храмы, сохранились лучше кубоватых. Это объясняется тем, что шатровые храмы были летними. Сруб шатровой церкви складывали «насухо», без прокладки пазов мхом, не было двойных, «зимних» рам, двойных дверей, утепленного пола и потолка. Через все эти щели и проемы происходила непрерывная, естественная вентиляция, т.е. просушка всех помещений храма, частей его конструкции. Долговечности шатровых церквей способствовала и большая их высота, потому что, чем выше церковь, тем сильнее тяга воздуха в своеобразной «вытяжной трубе». Таким образом, создавались идеальные условия для постоянной, естественной просушки дерева, а сухое дерево, как известно, уверенно противостоит гниению, поражению грибками и насекомыми.
В классических онежских «тройниках» недалеко от шатровой летней церкви ставили зимнюю, как правило, кубоватую, меньшую по размерам, которую утепляли как обычное жилье. Колокольня в «тройнике» стояла отдельно от храмов, возле одного их них или между ними. Прообразом этих колоколен в глубокой древности была простая звонница, устраивавшаяся на столбах. Далее эта звонница вполне естественным и уютным образом устроилась внутри шатрового оборонительного сооружения - сторожевой башни. В Древней Руси такие башни называли «вежами», от слова ведать, т.е. знать. Их ставили вне крепостных стен поселений, на подступах к ним. Стояли они на открытых, возвышенных местах на видимом отдалении друг от друга, обеспечивая хороший обзор местности и быструю передачу сигналов на большие расстояния.
Из всех разнообразных форм рубленых боевых башен наиболее удачно соединила в себе практические и художественные достоинства шести- или восьмигранная. Покрытием такой сторожевой башни со смотровой площадкой всегда являлся шатер, на вершине которого обычно устраивалась дополнительная дозорная вышка. Этот образ настолько укрепился в архитектурно-художественном мышлении крестьян, что был привнесен ими в культовое зодчество» [25].
В свою очередь в разделе «Приходы в морской части Онежского района» он отмечал, что «Кушерецкий приход находится с селе Кушерека, в устье реки Кушерека. На 1 января 1895 г. там было 264 двора, 1514 жителей. Прихожане заражены расколом. Успенская церковь 1696 г., поставлена вместо древней, сгорела в 1811 году. Храм Вознесения Господня освящен в 1669 г., сейчас он находится в музее деревянного зодчества под Архангельском, в Малых Карелах. Сохранился его фотоснимок на первоначальном месте (рисунки 2.153-2.154) [25, фото].

Рисунок 2.153 - Храм Вознесения Господня, 1669 г., с. Кушерека, на берегу реки Куша. Фото середины ХХ в. [25, фото].

Рисунок 2.154 - Храм Вознесения Господня, 1669 г., с. Кушерека. Вид с запада, он отличается от современного вида в музее «Малые Карелы». Фото середины ХХ в. [25, фото].
Дополнительные сведения о Кушерецком погосте содержатся также в статье архитектора-реставратора В.А. Крохина «Реставрация Вознесенской церкви в селе Кушерека Архангельской области» [36]. «Вознесенская кубовая церковь в селе Кушерека - бывшей вотчине Соловецкого монастыря - построена в 1669 г. (рис. 1). Село расположено в 18 км к северо-западу от железнодорожной станции Малошуйка в устье небольшой порожистой речки Куши, впадающей в Белое море» [36, с. 59-60, рис. 1].
«Церковь неоднократно ремонтировали и перестраивали. Трапезная - помещение с двумя алтарями - и второй этаж над ней являются поздними пристройками. Исследование памятника подтвердило первоначальное существование нижней паперти с трех сторон четверика церкви и верхней паперти с запада.
Проект реставрации обосновал возможность и художественную целесообразность восстановления памятника в первоначальной архитектурной композиции. В бассейне реки Онеги и примыкающего района Белого моря было широко распространено строительство кубовых многоглавых церквей. Одной из веских причин этому были церковные указания второй половины XVII в., рекомендующие строить по правилам «святых апостол и святых отец, чтобы были о пяти верхах, а не шатром». Излюбленное народом шатровое завершение храма запрещалось, как не отвечающее требованиям официального пятиглавия. Творческим ответом зодчих на запрещение шатра явилось кубовое покрытие центральной части сруба, уже встречающееся в таких постройках, как Пятницкая одноглавая церковь (1666 г.) в селе Шуерецком и Петропавловская церковь (1625 г.) в селе Вирма Карельской АССР (район Белого моря). Не исключено, что Петропавловская церковь могла быть первоначально тоже одноглавой с последующим добавлением четырех боковых глав. Пропорциональный анализ выявил самый низкий по высоте сруб четверика и алтаря, а также необычно большой размер центральной главы по сравнению с дошедшими до нас кубовыми пятиглавыми церквами (рис. 2). В Пинежско-Мезенском бассейне появилось пятиглавие при шатровом завершении на крещатой бочке» [36, с. 59-60, рис. 2].
«Но отметим, что происхождение куба, бочки и ряда других форм связано с языческими поклонениями природе.
Мастера, создавшие Вознесенскую церковь, приложили много усилий, чтобы воплотить в ее архитектуре подлинно народные понятия о красоте и величии. Художественная выразительность куба с главками создает сильное впечатление большой целостности и завершенности. Плавность перехода примыкания шеек глав к кубу достигнута устройством небольших бочек: лбы их ориентированы у средней главы по сторонам света, у боковых - по диагонали куба. Все части здания удивительно пропорциональны. Вознесенская церковь воплотила лучшие художественные достижения храмов кубового типа, поэтому она достойно представляет древнерусское зодчество Севера в Архангельском музее-заповеднике.
При разработке проекта реконструкции использованы исследования и обмеры этого памятника, сделанные автором данной статьи в 1958 г. и вторично проверенные в 1971 г. в связи со значительными расхождениями с обмерами, выполненными академиком архитектуры В.В. Сусловым (прим. 1 - Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское деревянное зодчество - М., 1942, с. 144 [28, с. 144]) и данными Известий Археологической комиссии 1911 г. (прим. 2 - Известия Археологической комиссии - СПб., 1911, вып. 41, с. 99 [29, с. 99]). При сопоставлении двух названных материалов с последующими натурными исследованиями выявлены следующие несоответствия:
«В 1825 году к трапезной пристроены два придела, из которых южный освящен в 1830 году, а северный - в 1860 году». В обмере плана, выполненном В.В. Сусловым, трапезная-церковь и ее два боковых алтаря срублены с четвериком. По материалам Археологической комиссии (данные церковных метрик) трапезная существовала до 1825 г. и была выполнена одновременно с четвериком (собственно церковью) и его алтарем при строительстве церкви в 1669 г. Анализ обмера В.В. Суслова приводит к выводу о существовании трапезной - церкви и ее двух алтарей с момента постройки сооружения или приспособления в 1825 г. участков трапезной, заходящих на северную и южную стены главной церкви (четверика), в алтари. Исследования и обмеры памятника в 1958 г. показали, что трапезная, к которой якобы было пристроено два придела (алтаря), до 1825 г. не существовала. Это подтверждается следами ранее существовавшей паперти и отдельно стоящим рубом трапезной с внутренними стенами, охватывающими четверик (церковь) с трех сторон (рис. 3)» [36, с. 60-62, рис. 3].
«С трех сторон паперть» (прим. 3 - Известия Археологической комиссии - СПб., 1911, вып. 41, с. 99 [29, с. 99]). При существовавшей в то время трапезной (теплой церкви) не могло быть с трех сторон паперти. Можно предположить, что, обходя указ 1825 г., запрещавший перестройку церквей без проектов губернских строительных комиссий, утвержденных епархиями, крупная перестройка была выполнена и скрыта под видом пристройки двух алтарей к трапезной. Это обусловило запутанность сведений.
«Купол репчатый на 4 грани (бочечный сруб) с пятью главками, более поздний» (прим. 4 - Известия Археологической комиссии - СПб., 1911, вып. 41, с. 99 [29, с. 99]). Исследованием не удалось установить переделок куба и верхней части четверика. Все выполнено в конструкциях, типичных для существующего объемного завершения. Кубовое завершение церквей XVII в., распространенное в Онежском бассейне и Поморье до села Вирмы Карельской АССР, составляет отличительную и главную художественную особенность Вознесенской церкви. Учитывая это, автор считает ненужным подвергать сомнению существующее решение как более позднее. Несоответствие многих архивных данных натурным исследованиям не является, вероятно, исключением и для информации о кубовом завершении. Единство архитектурного замысла дополнительно подтверждается системой построения формы, свойственной кубовым церквам. Здесь трудно предположить возможность существования ранее другого завершения - двухскатного или в виде бочки.
На основании изложенного можно установить этапы изменения архитектурных форм рассматриваемого памятника. Первоначальную композицию здания составляли четверик с кубовым завершением, алтарь с покрытием бочкой, охватывающая четверик с трех сторон нижняя паперть и расположенная над ней с запада верхняя паперть. Крыльцо, по всей вероятности, примыкало к храму с запада.
Вторичную композицию здание приобрело, предположительно, в 1825 году, когда была ликвидирована нижняя и верхняя паперти и пристроена теплая церковь (трапезная) с двумя алтарями, а также заново выполнена паперть верхнего этажа. Северные и южные двери на четверике были переделаны в оконные проемы.
В 1874 г. наружные и внутренние стены всех помещений были обшиты досками (внутренние стены покрашены), расширены оконные и дверные проемы, перемещен алтарь верхней церкви из четверика в объем бочки, переделаны иконостасы и т. д.
Реконструкция Вознесенской церкви велась на основе результатов натурных исследований и пропорционального анализа закономерностей в построении галерей-папертей, а также с помощью одного из древних приемов достижения единства в ансамблевой застройке - членения основных объемов зданий в одном уровне (рис. 4)» [36, с. 62-63, рис. 3].
«При восстановлении высоты срубов был добавлен один нижний венец. Это сделано на основании дверного проема в подклет, опирающегося колодами в ныне существующий нижний венец на южной стене четверика. Как правило, двери в подклет врубались в верхнюю треть второго или (реже) в низ третьего венца. По мере осадки грунта и прироста культурного слоя нижний венец соприкасался с землей, поэтому у строителей существовал прием удаления нижнего венца с подведением ряда камней по однорядному каменному фундаменту, ушедшему в землю. Такой метод осуществлялся без подъема здания и замены венца. Для поддержания сруба применяли «стрелы» - стойки, выемки от которых сохранились на срубе. Правильность восстановления нижнего венца подтверждается четкой системой построения формы, свойственной кубовым церквам (см. рис. 4)» [36, с. 62, рис. 4].
«Верхняя паперть Вознесенской церкви в Кушереке была построена одновременно с нижней. Это подтверждается состоянием сруба, который не имеет следов открытого атмосферного воздействия до уровня расположения кровли, и наличием гнезд от кровельных слег на наружной поверхности западной стены. Следует отметить, что кровля поздней верхней паперти расположена выше кровли первоначальной паперти на 0,8 м и опирается на слеги, врубленные во внутренний фронтон.
Устройство верхней церкви в составе здания в первый период строительства подтверждается наличием верхней паперти и следов от низко расположенного потолка, иконостаса, волоковых окон в алтаре, а также двух узких слуховых проемов на западной стене четверика. Дополнительным подтверждением первоначального существования верхней церкви является устройство несущего перекрытия над нижней церковью в виде одновременно уложенных балок в двух направлениях с заполнением из досок в «ёлочку» между балками нижнего ряда. Можно предположить, что на определенной стадии выполнения работ изменился архитектурный замысел в связи с намерением использовать большую высоту четверика под второй этаж. Одновременно утратило свое назначение окно для верхнего освещения нижней церкви, расположенное на западной стене. Конструктивная врубка слег бочки алтаря (без выпуска торцов бревен) до уровня потолка верхней церкви может быть объяснена необходимостью иметь в интерьере открытую поверхность стены. Это же подтверждает, что верхняя церковь была возведена в период строительства здания.
Увеличенные гнезда от балок на внутренних поверхностях западной и восточной стен верхней церкви являются следствием изъятия четырех балок с последующим использованием их для устройства потолка на значительно большей высоте.
Следы примыкания нижней паперти в паз, выбранный в торцах бревен на южной и северной стенах четверика от низа до уровня верха примыкания кровли, свидетельствуют о том, что нижняя паперть была бревенчатая. Верхняя паперть имела каркасную конструкцию, причем пол был настелен на одном уровне со входом в помещение церкви. Это подтверждается штробой для установки стоек к торцам бревен четверика. Ниже уровня пола шел сруб, позднее спиленный.
Архивных данных о размерах паперти найти не удалось. При ликвидации папертей их фундаменты, состоящие из одного ряда валунов, как правило, разбирались и использовались для фундаментов под вновь возводимые пристройки. Шурфы и зондажи на памятниках, где существовали паперти, не обнаружили валунов от фундаментов. В разобранных консольных папертях тоже было невозможно определить размеры в плане. Поэтому при восстановлении размеров паперти пришлось руководствоваться закономерностями, выявленными в построении галерей - папертей. Длина паперти от западной стены четверика могла быть определена двукратной шириной четверика за вычетом длины четверика и алтаря (рис. 5). Именно такое соотношение встречается в клетских и шатровых церквах Онежского бассейна, послуживших основой для построения планов ранних кубовых храмов. В качестве примера можно назвать Богоявленскую церковь в Елгомском погосте - 1643 г. и Никольскую церковь в Пурнеме - 1618 г. (рис. 6). Это дополнительно подтверждается совпадением кратной меры длины, равной 5 арш., что, например, зафиксировано архивными данными по Петропавловской церкви в селе Ратонаволок - 1722 г. и обмером Никольской церкви в Пурнеме. Ширина паперти определена принятой высотой у свеса кровли (1,85 м) и равным углом наклона кровли на верхней паперти (18°). Такой наклон является оптимальным (15-22 градуса), он зафиксирован обмерами на многих папертях. Обращает на себя внимание ширина поздних боковых алтарей, равная в осях 4 аршинам. Полученная ширина паперти - 4 арш. - аналогична размерам сохранившихся консолей паперти на Вознесенской церкви в селе Пияла (1654 г.). Размеры папертей, равные в свету и в осях 4 и 5 аршин (2,84 м и 3,55 м), часто встречаются в разных по типу церквах с компактной (центричной) объемно-планировочной композицией. Уровень пола и примыкание кровель приняты по следам, зафиксированным на срубе четверика» [36, с. 63-66].
«Интерьеры, архитектурные детали, кровли, крыльцо и элементы наружного декора восстановлены на основании зафиксированных частей и аналогий в русском деревянном зодчестве. При реставрации колокольни учитывались результаты обследования постройки и ее обмеры. Были исследованы архитектурные прообразы для данного типа сооружений, изучены многие колокольни Онежского и других районов Архангельской области, Карелии и т. д.
В Онежском районе при кубовых, а также при шатровых церквах, расположенных рядом с кубовыми (иногда только при шатровых), ставились колокольни с высоким четвериком, с кровельным завершением по форме купола или колокола. В этом районе нет колоколен восьмериковых или с низким четвериком, переходящим в восьмерик, и шатровым завершением подобно храмам в Цывозере, Кулиге, Чухчерьме и т. д.
Возникает вопрос: не являются ли высокие четверики для колоколен Онежского бассейна более поздним решением, а куполообразные покрытия первоначальным, свойственным художественным соображениям достижения единства в ансамбле с кубовыми церквами? Следует отметить, что в районе Белого моря имеются высокие четверики шатровых колоколен при шатровых церквах в Варзуге и Нижмозере. Если мы обратимся к архивным материалам, в частности, к «Памятной книге Пияльского прихода» (прим. 5 - Передана В.А. Крохиным в архив Архангельской научно-реставрационной мастерской в 1958 году), то там найдем такую запись: «Апреля 15-го дня 1822 года. «О построении колокольни». «Колокольня деревянная шатровая построена в 1700 году, крыта досками в шесть ярусов, вышиною 20-ти сажен на деревянном фундаменте, в нее двери одинарные с висучим замком...» В соответствии с указанием общей высоты и сохранившихся срубов сделано восстановление шатра и главы.
В описи имущества церквей Ненокоцкого прихода Архангельского уезда за 1842 год читаем: «Церковь Алексея, человека Божия при речке Куртяевке на пустынном месте в 15 от посада верстах, построена по благословению Преосвященного Варсонофия Архангельского и Холмогорского по случаю явления там его образа, 1721 года, тщанием прихожан и других усердствующих лиц, здание деревянная на таком же фундаменте, вышиною с крестом 8 сажен, о двух шатрах и главах» (прим. 6 - Архангельский областной архив. Опись имущества церквей Ненокоцкого прихода Архангельского уезда за 1842 год. Фонд № 29, оп. 31, Ед. хр. 429, с. 10 [9, с. 10]). Позднее оба шатра были заменены соответственно на куб и куполообразное покрытие. Во второй половине XIX века были переделаны шатры на колокольнях в Пиялах и Куртяевке. В «Описании церквей и приходов Архангельской епархии» за 1889 г., изданном в г. Архангельске, встречается упоминание о замене на колокольнях шатровых покрытий на куполообразные. Куполообразные покрытия на колокольнях мы видим не только на кубовых церквах, но и на шатровых (Конецдворье и Ненокса Архангельской области, Важины Ленинградской области и т. д.). Поэтому при реставрации необходимо учитывать многие факторы каждого периода развития русского деревянного зодчества, выполнять тщательные исследования, изучать особенности каждого памятника и сложившегося ансамбля.
Архитектурным прообразом для онежских колоколен (наряду с общим заимствованием форм от военно-оборонительных башен) были шатровые церкви бассейна реки Онеги, имеющие центральный сруб типа «восьмерик на четверике». Сказанное наглядно иллюстрирует пропорциональный анализ Никольской церкви в селе Пурнеме - 1618 г. выполненный по проекту реставрации архитектора И.Б. Пуришева (рис. 7), Никольской церкви в селе Малошуйке - 1638 г. (рис. 8), а также Вознесенской церкви в селе Макарьино - 1762 г. (рис. 9). Традиционные соотношения деталей в срубах онежских колоколен были заимствованы и с незначительным отклонением применены при составлении официальных проектов колоколен в Архангельской губернии в первой половине XIX в., но только при куполообразном или колоколообразном кровельном покрытии. Примером возведения по подобному проекту, составленному в строительной канцелярии, может служить колокольня в селе Неноксе - 1834 г. (рис. 10)» [36, с. 66-68, рис. 7-10].
«В описи имущества церквей Ненокского прихода за 1842 г. записано: «При сих церквах колокольня деревянная построена по плану, с благословения Преосвященного Георгия, Епископа Архангельского и Холмогорского и Кавалера в 1834 году мастером, Архангельским мещанином Заборщиновым из нового с употреблением старого от прежней колокольни, вышиною с крестом 13 1/2 печатных сажен» (прим. 7 - Архангельский областной архив. Опись имущества церквей Ненокоцкого прихода Архангельского уезда за 1842 год. Фонд № 29, оп. 31, Ед. хр. 429, с. 5 [9, с. 5]). На рис. 10 пунктиром показаны соотношения, встречающиеся на древних колокольнях. Точка n вверху полуокружности фиксирует уровень высоты расположения верха главы, верха и низа шейки по отношению к срубу в шатровых колокольнях. Обращает на себя внимание соотношение в срубах, выполненное в точных пропорциях золотого сечения (1 : 1,62), незначительно отличающееся от использованных на древних онежских колокольнях (1 : 1,74; см. рис. 4). Соотношения в звоннице колокольни в Неноксе отличаются большей высотой по сравнению с пропорциональностью на звонницах древних колоколен (> В / 2 и М: см. рис. 10).
Во второй половине XIX в. производились ремонты и переделки многих деревянных церквей и колоколен. Это «поновление» велось с подражанием внешнему виду каменного зодчества того периода. Куполообразные покрытия и арочные пролеты звена колоколен, выполненных по проектам строительных комиссий (подобно колокольне в Неноксе), стали образцами для переделок звонниц и шатров на многих древних колокольнях.
Проект реставрации Вознесенской церкви был разработан сначала для основного объема храма, как более ранней и главной постройки, а затем и для колокольни. Пропорциональный анализ сохранившегося сруба четверика и восьмерика выявил закономерности, свойственные колокольням: уровни четверика, восьмерика и верха звонницы соответствуют уровням членений частей церкви. Сходство фактуры восьмерика и верхней паперти церкви, а также единые уровни членения их объемов подтверждают предположение о том, что колокольня была построена раньше пристройки трапезной и верхней части над ней. Тот факт, что уровни кровель и срубов трапезной и поздней верхней паперти выше, чем у колокольни и не совпадают с ее членениями, свидетельствует о том, что эта часть храма была возведена до крупной перестройки церкви, проведенной в 1825 году. Для достижения единства в ансамблевой застройке строитель использовал закономерности в построении срубов и звонницы. Предположительно, от высоты звонницы и сруба он подошел к размеру плана, а затем определил отдельные части колокольни в соответствии с приемами построения формы колоколен, свойственными древнерусскому деревянному зодчеству XVI-XVIII вв. Дополнительными примерами подчинения приемам достижения единства в ансамблевой застройке могут служить архитектурные решения колоколен в селах Пияла и Макарьино Онежского района Архангельской области. Высота срубов колокольни в селе Пияла (1700 г.) равна высоте четверика кубовой церкви (1685 г.; рис. 11). Высота четверика колокольни в селе Макарьино равна высоте сруба алтаря кубовой церкви (1695 г.), а уровень верха бочки над алтарем совпадает с уровнем верха восьмерика колокольни (рис. 12). Шатры обеих колоколен во второй половине XIX в. были заменены на куполообразные покрытия» [36, c. 69-70, рис. 11-12].
Необходимо также упомянуть о сведениях, представленных на портале «Оnegaonline.ru» в виде набора фотографий общего вида деревни Кушерека и ее храмового комплекса, расположенного на левом берегу реки Кушереки между деревнями Крюк и Бачинская [82, фото]. В составе Кушерецкого погоста ранее имелась церковь Вознесения Господня (в честь Вознесения Господня) построенная в 1669 году (первоначально - холодная с двумя престолами в верхнем этаже - Святого пророка Ильи и Святой Великомученицы Параскевы, в 1826 году к трапезной прирублены пристройки с южной (придел во имя Успения Пресвятой Богородицы, 1830 г.) и с северной (придел во имя Богоявления Господня, 1860 г.) сторон, а после переделок 1881 года осталось три предела - в нижнем этаже один - Успенский, другой - Богоявленский, в верхнем этаже - один, в честь Пророка Ильи и Великомученицы Параскевы). Около Вознесенской церкви располагалась еще и отдельно стоящая деревянная шатровая колокольня, устроенная в 1854 году и окруженная вместе с церковью деревянной оградой, Кроме того, ранее на погосте существовала еще теплая Успенская церковь, поставленная вместо древней в 1696 году и сгоревшая в 1811 году (рисунки 2.155-2.163) [36; 82; 105].

Рисунок 2.155 - Село Кушерека Онежского района Архангельской области. Панорама села от устья р. Кушереки (фото А. Крысанова (Онега), нач. 1990-х гг.) [82, фото].

Рисунок 2.156 - Село Кушерека Онежского района Архангельской области (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
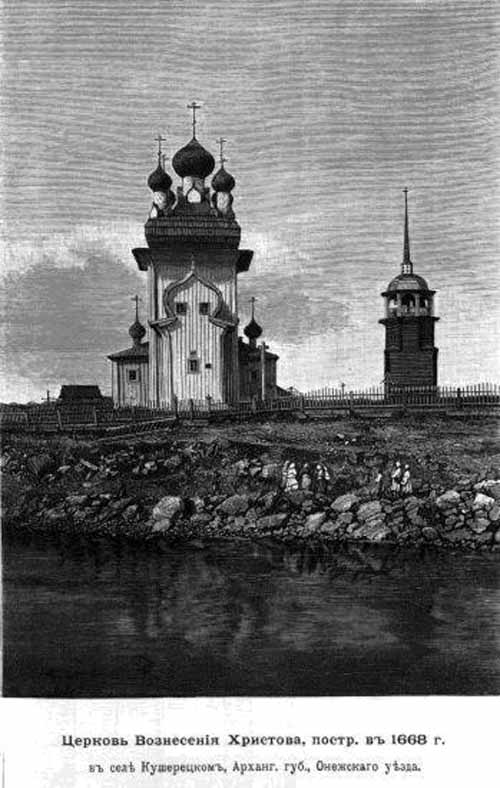
Рисунок 2.157 - Церковь Вознесения Христова, постр. в 1668 г. в селе Кушерецком, Арханг. губ. Онежского уезда (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

исунок 2.158 - Село Кушерека Онежского района Архангельской области. Церковь и колокольня накануне разборки (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.159 - Село Кушерека Онежского района Архангельской области. Церковь Вознесения Христова (1668 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.160 - Село Кушерека Онежского района Архангельской области. Церковь Вознесения Христова (1668 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
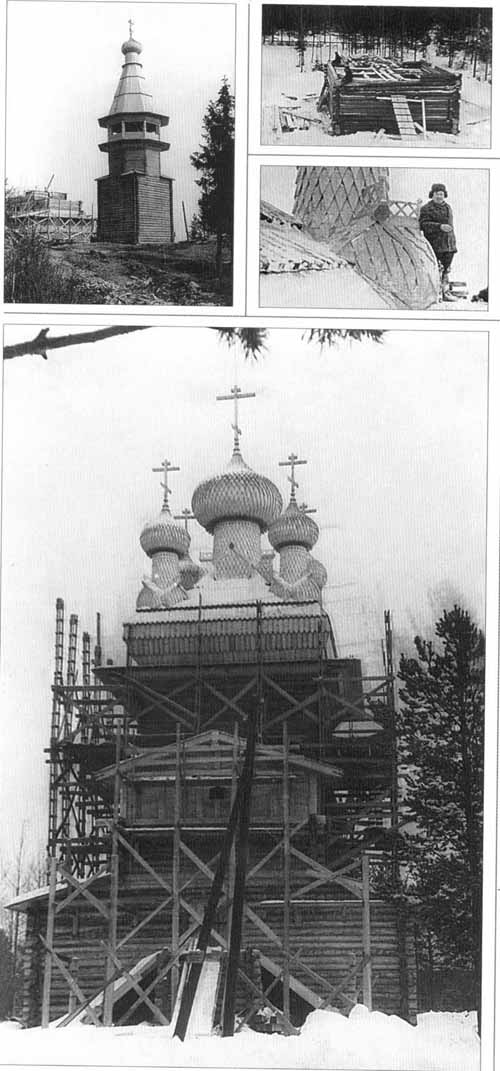
Рисунок 2.161 - Село Кушерека Онежского района Архангельской области. Восстановление кушерецкой церкви в «Малых Карелах» (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.162 - Село Кушерека Онежского района Архангельской области. Церковь Вознесения Христова (1668 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.163 - Село Кушерека Онежского района Архангельской области. Церковь Вознесения Христова (1668 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
В перспективе Кушерецкая ГСНМ может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.1.7 Кяндская ГСНМ, Тамицкая сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
Кяндская групповая система населенных мест находится в северной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 53 км к северу от районного центра - города Онеги и на расстоянии 18 км к северу от села Тамица - Тамицкое - Тамицы (дд. Тайбола, Низ, Галахов Ручей, Серечье, Церковный Холм, Верховье, Гринь-Наволок, Сутово, Гора) - административного центра Тамицкой сельской администрации.
Кяндская ГСНМ расположена на левом и правом берегах в излучине реки Кянды, впадающей с востока в Онежскую губу Белого моря, образовалась в результате срастания деревень Городок (основная часть села со стороны г. Онеги), Верховье, Новая деревня, Воя, Пёлнас, Мугалы, Низ и Заболотье (рисунки 2.1, 2.30, 2.164) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 11; 82, карты].
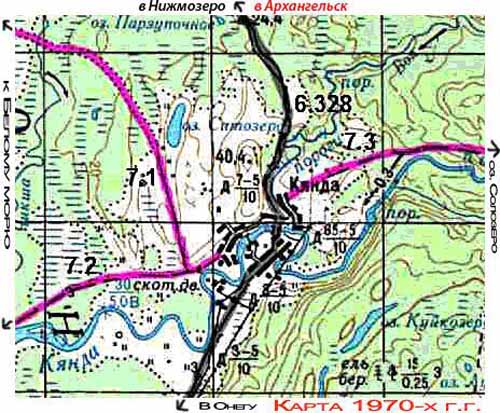
Рисунок 2.164 - Деревня Кянда - с. Кянда. Топографическая карта 1970-х гг. [82, карта].
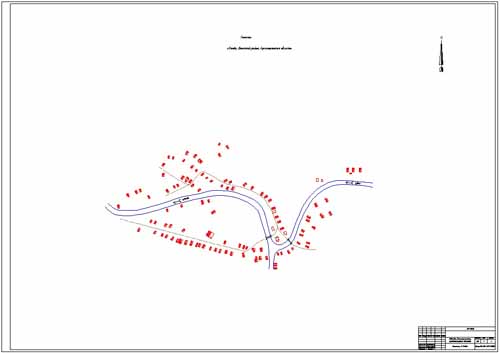
Рисунок 2.165 - Деревня Кянда - с. Кянда, Тамицкая сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
На период полевых работ Историко-архитектурной экспедиции Петрозаводского государственного университета 1987 года в деревне Кянда - с. Кянда (дд. Городок (основная часть села со стороны г. Онеги), Верховье, Новая деревня, Воя, Пёлнас, Мугалы, Низ, Заболотье) насчитывалось 107 жилых домов (рисунки 2.165-2.166). Архитектурно-типологическое описание планировки и застройки Кяндской ГСНМ, содержащееся в формуле «К1/2(2)(01.4->01.1), ПК1/1, Т3/2(1), ПТ2, В4:[В2/1(1)+В3/1(2)], ПВ3/2(1)(01.1)(02.1), Р1» приведено в приложении А и в таблице Б.1.
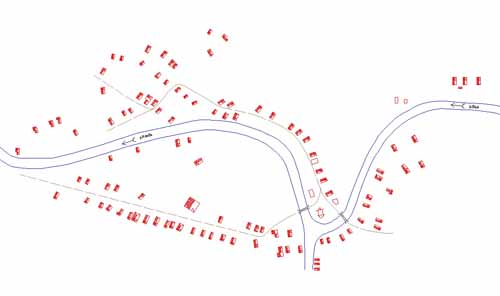
Рисунок 2.166 - Деревня Кянда - с. Кянда, Тамицкая сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
По характеру акцентировки пятна застройки Кяндская ГСНМ относится к акцентированным групповым системам. О культовых сооружениях в деревне Кянда имеются следующие сведения. Храмовый комплекс, состоящий из деревянной летней холодной шатровой одноглавой Богоявленской церкви (во имя Богоявления Господня) с двумя престолами - во имя Богоявления Господня и во имя Святых Апостолов Петра и Павла, построенной в 1668 году, и деревянной зимней теплой двухэтажной шатровой одноглавой Благовещенской церкви (во имя Благовещения Божьей Матери) с куполами и шестью чешуйчатыми главами (из них пять - на церкви и одна - на алтаре), с приделом во имя Святого Великомученика Георгия, с одною трапезною и папертью, а в верхнем алтаре - с церковью во имя Вознесения Господня, построенная в 1794 году. Благовещенская церковь сгорела в 1879 году, а на ее месте в 1883 году была возведена двухшатровая шестиглавая пятипрестольная Вознесенская церковь с колокольней над папертью, имевшая три престола в ряд: главный - во имя Вознесения Господня; правый - во имя Благовещения; левый - в честь Великомученика Георгия, а также два престола в трапезе - во имя Николая Чудотворца и Александра Невского. В составе храмового комплекса ранее также имелась деревянная шатровая колокольня, построена в 1774 году, а вокруг церквей - деревянная ограда, сгоревшая при пожаре 1879 года. Богоявленская церковь сгорела в 1996 году, а Вознесенская - в 2000 году. На месте храмового комплекса в 2008 году была возведена часовня Святых Апостолов Петра и Павла [25; 36; 82].
Дополняя выше приведенную характеристику деревни Кянда - с. Кянда (дд. Городок (основная часть села со стороны г. Онеги), Верховье, Новая деревня, Воя, Пёлнас, Мугалы, Низ, Заболотье), следует также упомянуть о сведениях из «Краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской епархии». 1896 года, согласно которым становится известно, что Кяндский приход «составляют: большое село Кянда, расположенное в устье реки того же имени, впадающей в Онежский залив севернее Тамицы на 17 верст, - выселок Кяндозеро, в 8 верстах от Кянды, - д. Солозеро, в 35 верстах от Кянды за ручьями и болотами, у озера того же имени. Жителей на 1.01.1895 г. состояло : 491 м.п. и 569 ж.п., дворов 138.
Когда образовался приход - сведений не имеется. В настоящее время в Кянде 2 деревянных одноглавых (с шатрами) церкви: первая - « летняя», построенная во второй половине 17 века (1668 г. - дата из церковной описи за 1833 г. - С. Головченко.), имеет два престола рядом: 1) во имя Богоявления Г-ня; 2) во имя Св. Апостолов Петра и Павла; вторая - «зимняя», построенная в 1883 г. на средства СПБ-го купца Николая Полежаева и прихожан, вместо сгоревшей в 1879 г. В ней 3 престола вряд: главный - во имя Вознесения Г-ня; правый - во имя Благовещения; левый - ВЛКМ-ка Георгия. Два престола в трапезе: во имя Николая Чудотворца и Александра Невскаго, над папертью сей ц-ви устроена колокольня. Обе ц-ви обшиты и окрашены белилами и вообще поддерживаются прихожанами в приличном виде. Ограды вокруг ц-вей, правда, нет после пожара 1879 г.
Богослужебная утварь и ризница достаточны и приличны. Сверх обычных средств содержания во владении ц-ви имеется 5 десятин сенокоса, который отдается ежегодно в аренду с торгов и приносит от 35 до 45 р. и более дохода. Кроме этого в 1892 г. открыто церковно-приходское попечительство, средства котораго на 1894 г. составляли ок. 80 р.; половина из них израсходована на ремонт ц-вей.
Церковно-приходской школы в Кянде нет, а есть двухклассное сельское училище, которое существовало здесь с 1843 г. и до 1861 г. находилось в ведении приходских священников, а с этого года поступило в ведение Министерства Народ. Просвещения, и в 1875 г. преобразовано в двухклассное; закону Божию обучает священник (за 150 р. в год).
Кроме приходских ц-вей имеется еще приписная дерев. ц-вь в поселке Солозеро. Время образования этого поселения неизвестно. Сначала здесь была часовня во имя св. Апостолов Петра и Павла, потом она была заменена более обширной, в ч. Тихвинской иконы Б. Матери. В 1888- 1889 гг. к этой часовне были пристроены: алтарь, паперть с колокольнею над ней. Часовня обращена была в ц-вь и освящена, по благословению преосвященнаго Нафанаила в 1891 г. Средства для устроения этой ц-ви были доставлены крестьянином с. Кянда Михаилом Мосеевым. Ц-вь обшита и окрашена белилами, увенчана 1 главою над средней частью и одной главою - над алтарем. Утвари при ц-ви достаточно, но нет полнаго круга богослужебных книг. Храмовая Икона считается по преданию Явленною и чтится жителями как Чудотворная.
Причт, состоящий из священника и псаломщика, помещается в особых домах, но дом псаломщика так ветх, что грозит падением. Средствами содержания причта служат: жалование (140 р. и 40 р.), доходы за требоисправления, коих получается от 150 до 200 р. в год; земли во владении причта: пахотной - 2 десятины 1364 сажени и сенокосной 13 дес. 1765 саженей. Земля, особенно пахотная, малодоходна. Священником состоит о. Андрей Прокопьев Иванов, 44 л., окончивший Арх. Дух. семинарию, в сане священника с 14 сент. 1876 г., на занимаемом месте с 15 окт. 1887 г. Псаломщик Иван Егоров Пасторов, 55 л., уволен из высшаго отд. Арх. Дух . училища, на настоящем месте с ноября 1869 г.» [36; 82].
Интерес также представляют статистические данные, опубликованные на портале «Onegaonline» в разделе «Деревня Кянда», в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [82]. Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о селе Кянда, правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 234; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о селе Кянда, в котором на этот момент насчитывалось 102 двора, в которых проживало 675 человек (315 - мужского и 360 - женского пола) [82; 92, с. 45].
В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о селе Кянда. Количество жилых дворов в нем на данный момент составляло 164 единицы. Количество населения: мужского пола - 503, женского пола - 602 (всего 1105 человек). Село в это время относилось к Кяндской волости Кяндского сельского общества и соответственно к Кяндскому приходу [14, с. 164-165; 82]. А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о селе Кянда. В это время в селе насчитывалось 204 двора, в которых проживало 1182 человека обоего пола. В данное время село относилось к Кяндской волости [82; 93, с. 15].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» имеется упоминание о селе Кянда, в котором по переписи 1920 года насчитывалось 210 дворов, а количество населения: мужского пола - 421, женского пола - 605 (всего 1026 человек) [82; 94, с. 79]. В результате укрупнения волостей в 1924 году, село Тамица вошло в состав Кяндской волости Онежского уезда [82; 95, с. 24-25].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о селе Кянда в составе Кяндского сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 346; 82].
Интерес также представляют сведения из «Описи имуществ и угодий церкви Кяндскаго прихода за 1833 год», хранящейся в Государственном архиве Архангельской области [15; 82]. Согласно этой описи «В основании Кяндскаго прихода - две церкви.
Первая - во имя Богоявления Господня, построена в 1668 году тщанием прихожан, на деревянном фундаменте, высотою 17 сажен, шатровая, с двумя главами чешуйчатыми, из которых - одна на церкви, другая - на алтаре. В оном строении 14 окон с оконницами стеклянными, и с одним, на одном ставу (рядом с главным престолом) приделом во имя Святых Петра и Павла; с одною папертью и холодная.
Рядом вторая церковь во имя Благовещения Божией Матери, двухэтажная, построена в 1794 году, на каменном фундаменте, высотою в 16 сажен, с куполами и 6-ю чешуйчатыми главами, из них 5 - на церкви и одна - на алтаре. Обе церкви покрыты деревянными досками. В оном строении 20 окон, с двойными стеклянными оконницами, из них 12 - с железными решетками, с одним, на одном ставу, приделом во имя Святого Великомученика Георгия, с одною трапезною и папертью. В верхнем алтаре - церковь во имя Вознесения Господня.
При сих церквах колокольня, деревянная, шатровая, построена в 1774 году, высотою 16 сажен, с главою чешуйчатою. На ней 16 колоколов: один - 30 пудов, второй - 18 пудов, третий - 4 пуда, четвертый - ?, пятый - один пуд, шестой - 30 фунтов. Вокруг церквей и колокольни ограда имеется деревянная.
До оной церкви во имя Благовещения Божией Матери была эта церковь на другом месте, в 15-ти саженях, но за ветхостью разобрана и перенесена на вновь освященное место. При сих церквах иконоставы деревянные.
О землях церковных и разных угодьях. Земли церковные и разные угодья для поддержания причта находятся не в одном месте, а по разности, а именно: Трестяной остров, на Карьем наволоке, Средний остров, Нижний остров, на Агма-ручье, в Лугу, на волоке, на Поддыбье, на Плоском наволоке, на оссеком, в Ключеватке, на Грязном наволоке, в Крестовом, за Пет-ручьем, на Чекши, на Жаровье, в долгих, на Токовом наволоке, на Домашнем наволоке, на оводках.
Об иконоставах и иконах. В церкви Богоявления Господня на Горнем месте - крест деревянный «Распятие Господа», со стороны - разные лики святых. Образ «Знамения Божией Матери» с предвечным Младенцем. У Богоматери венец серебряный с цатой позлащенной, над венцом правка из мелкаго жемчуга числом 555 жемчужин, а на другой стороне - образ Нерукотворный. Иконостас резной столярной работы, на тумбах со столбцами резными, а по верху золоченый и частично по низу украшен разными красками. Царские врата с сенью и столбцами резными позлащенными, в сени писана Тайная Вечеря, на вратах Благовещение и 4 евангелиста. Над сенью на столбцах два ангела золоченых. По правую сторону Царских врат храмовый Образ Богоявления Господня, с киотом, с сенью резной золоченою; на нем 6 венцов, из коих три - с цатами, у ангелов то без цат; по бокам оклад серебряный позлащенный. По левую сторону Царских врат Образ Божией Матери с предвечным Младенцем, на ней венец с цатой серебряной позлащенной чеканной. В нем камень сердоликовый, у Богоматери и Младенца три привеса небольших жемчужных, числом 1060 мелкаго жемчуга. В приделе Св. Петра и Павла иконостас во всем подобен как в церкви Богоявления. По правую сторону Царских врат Образы Св. апостолов Петра и Павла, на коих три венца серебряных с цатами позлащенные, по полям оклады серебряные и позлащенные и чеканные. По левую сторону Царских врат Образ Богоматери с Предвечным Младенцем, на коем венцы с цатой серебряные позлащенные, чеканные, под венцами два убруса жемчужных небольших, числом 490 жемчужин мелкаго жемчуга; по краям оклад серебряный позлащенный басмянный.
В церкви Благовещения Божией Матери иконостав столярной работы крашенный разными красками и частью золочен. По правую сторону Царских врат Образ Господа Вседержителя, на нем венец серебряный позлащенный с цатой. Храмовый Образ Благовещения, на нем два венца с цатами. У Саваофа венец без цат. В приделе Великомученика Георгия - Храмовый Образ Великаго Георгия, на нем венец с цатой серебряный позлащенный. Иконостав во всем подобен «Благовещению». В верхней церкви (этаже) Благовещения Божией Матери иконостава не имеется.
В вышеупомянутых церквах имеется пять иконоставов и пять жертвенников.
В церкви Богоявления Господня престол посвящен когда и кем - неизвестно. Светлый Антиминс на голубом атласе священнодействован Неофитом, епископом Архангельским и Холмогорским, лета от мироздания 7332, от Рождества Христова 1823 года, апреля в 23 день. В приделе Святых Апостолов Петра и Павла престол посвящен когда и кем - неизвестно. Антиминс на белом атласе священнодействован преосвященным Иоасафом, митрополитом Новгородским и Вологодским, лета от мироздания 7208, от Рождества Христова 1700 года.
Святой престол и жертвенник в церкви Благовещения Богоматери, престол сей посвящен в 1726 году и освящен Крестнаго монастыря архимандритом Макарием 8 генваря 1726 года. Облачения на нем - гарнитура красного, а под оной прежняя одежда ситцевая с травами; покров штофа по красной земле, по полям огражден красным гарнитуром. Священный Антиминс на белом полотне священнодействован Преосвященным Иоасафаилом (Иоасафом, упр. Архангельской епархией с 2.12.1761 по 1.05.1769 - ред.).
Святой престол в приделе Великомученика Георгия посвящен в 1796 году генваря 9 дня архимандритом Крестнаго монастыря Макарием. Святой престол в церкви Вознесения Господня посвящен в 1802 году священником прихода отцом Василием Васильевым июня второго дня.
…В холодной церкви была богатейшая библиотека, в которой хранились ценные книги и документы: богослужебные книги, ноты, книги гражданской печати, бумажные письменные архивы (описи церковные, метрики, алтарные книги, росписи, клировые ведомости, приходно-расходные книги). Книга о чудесах Святого Митрофана, вещи нужные к обрядам церковным: аналои для храмовых икон, кресты, чаши, блюда, хоругви, кропила. Ризы, подризницы, епитрахили, пояса, наручья, стихари, пелены аналойные. Книги Московской печати, Минеи месячные, Новый и Ветхий Заветы…
В сем Кяндском приходе при вышеописанных церквах находилось налицо прихожан: 304 мужского пола и 348 женского пола, дворов - 107» [15; 82].
Интерес также представляют сведения, содержащиеся в «Рассказе инспектора училищ (кон. XIX - нач. XX вв )», хранящемся в архиве уроженки деревни Кянда Л.Е. Бушмановой [82]. «Кянда. Школьное здание. Остановка. Церкви. Крещенская иордань. Купание женщин.
Наконец взорам моим предстал конечный пункт моей поездки - село Кянда Онежского уезда. Кучи сереньких изб с последнего пригорка, на который поднялась моя повозка, казались как бы усевшими в яме, куда шла дорога, врезываясь в середину самой деревни. Село действительно расположено на низменности, окаймленной с двух сторон горами, а с противоположного края тянущейся непрерывною равниною до берега моря. Две речки, извивающиеся по этой низменности, - Кянда и Воя - привлекли появившихся здесь когда-то выходцев поселиться на берегах их.
Миновав несколько домов, я остановилась у очень длинного одноэтажного желтого здания. Оно сразу выделялось среди всех прочих построек своею величиною и высокими окнами, свидетельствующими снаружи о внутреннем его просторе и обилии света. Вся эта внешность сразу-таки придавала зданию казенный вид. Красовавшаяся на нем надпись «Двухклассное сельское училище» безмолвно отрекомендовала передо мною мое новое жилище. Надвигался вечер; становилось темно…
Назавтра с ударом колокола я направилась в здешнюю церковь. Был праздник Крещения. Тягучие мерные звуки с сельской колокольни плыли в утреннем морозном воздухе и застывали где-то вдали за селом над необозримым снежным покровом. Церквей в здешнем приходе две, обе деревянные, в одной из которых, пятипрестольной теплой, совершается круглый год богослужене. В этом храме особенное внимание привлекают иконы прекрасного, на мой взгляд, письма; особенно выделяется лик Богоматери.
Другая церковь, находящаяся рядом с предыдущей, не отапливается, служба в ней отправляется только раз в год, в Петров день, как храмовый праздник. Вид последней наводит на мысль о ее древности, очень маленькие оконца, хотя она выглядит совершенно подновленною, под свежей обшивкой и краской.
Церковь, переполненная молящимися, оглашалась довольно стройным пением школьников. Здешний народ, как я узнала впоследствии, вообще религиозен. Раскола в приходе нет. Но вот кончилась служба, и народ в лучших праздничных нарядах сплошной массой следом за священнослужителями двинулся на иордань, которая устраивается здесь очень большой величины, почти во всю ширину речки, квадратная.
Здесь поразила меня следующая, захватывающая за нервы картина: во время священнослужения некоторые женщины, снявшие с себя верхнюю одежду и оставшись в одних лишь сарафанах и чулках, уселись на корточках по краям водосвятной проруби и чего-то выжидали, сидя на морозе. Смотрю, что будет дальше. Лишь только священник погрузил крест в воду, как со всех остальных сторон бросились в ту же прорубь несколько женщин в сарафанах и чулках и, подхватываемые тут же стоящими к их услугам мужиками за концы подвязанных к ним полотенец, преспокойно себе выходили из воды и, одевшись, неспешно отправлялись домой. «Что это такое?» - спрашиваю я у их соседок. «Да вот не можут, верно, так и купаются в святой водичке», - получаю я разъяснение. Я слыхала о купаниях в деревнях после святок молодых мужиков, которые, видя в святочных нарядах и масках образ дьявола, стараются смыть с себя эту «дьявольщину» в только что освященной воде в реке. Но купания женщин в прорубях на морозе я никогда не воображала.
Знакомлюсь далее с селом и его обитателями по мере пребывания моего там. Большая часть домов расположена по берегу реки Кянды и только незначительная - по Вое, идя по которым отдельными рядами, постройки образуют параллель с этими речками и представляют изгибами своими такую же дугу, как и сами речки. Глядя на эти серые ряды, невольно приходится запечатлеть в памяти физиономию избушек, каждая из них имеет свое выражение; придается ли это количеством и расстановкою окон, расстояние между ними и крышей, правильностью или уклонением от него самого сруба и косяков - определить трудно, да и неважно. Дело только в том, что внешний вид избы во многих случаях представляет как бы зеркало ее внутренней жизни. На некоторых из них написан достаток; изредка порядок улицы прерывается высоким красивым домом какого-нибудь, своего рода, Колупаева или Разуваева.
Та часть села, которая находится со стороны города Онеги, по тракту служит украшением села и носит название «Городка». Здесь сосредоточены все местные административные учреждения: волостное правление, училище, фельдшерский и полицейский пункты, впереди которых растянулся церковный погост. Расположение построек повсюду правильное с достаточными между ними разрывами.
Училищное здание удовлетворяет школьным гигиеническим требованиям: в нем оказываются нормальными как световая площадь окон по отношению к площади пола, так и кубическое пространство воздуха в комнатах обоих классов, из коих в 1 классе состоит 42 учащихся, во 2 классе - 12. Но дом этот уже значительно постарел, теперь под школу готовится другое здание. Энергичный попечитель школы из местных крестьян, весьма сочувствующий народному образованию, разумно убедил мужиков отдать под школу громадное на каменном фундаменте здание, освободившееся из-под волостного хлебного магазина, которое волость собиралась продать. Теперь тот же попечитель школы усердно старается расположить разных лиц к пожертвованию на постройку из этого здания дома для двухклассного училища, произведя с этой целью сбор пожертвований по подписным листам, которые коснулись и жителей столицы. Лепты на это благотворительное дело постепенно прирастают одна к другой.
Почва в селе - сплошь глина, которая осенью от дождей легко превращается в сплошную кашистую массу, и тогда на улице всюду становится грязь непролазная. Тогда в отношении обуви и местная интеллигенция присоединяется к вкусам крестьян: заменяет камаши и галоши бахилами. Выходит, что «хороша наша деревня, только улица грязна» [82].
Упоминания о церквях Кяндского погоста содержатся также в работе краеведа Г.Б. Дерягина «Окрестности Онеги», опубликованной на сайте «Sudmed-nsmu.narod.ru» [25]. «Кяндский приход объединял с. Кянда, выселок Кяндозеро и д. Солозеро. На 1 января 1895 г. там было 138 дворов, 1060 жителей. Две одноглавых деревянных церкви, одна XVII века - Богоявления Господня, а другая XIX века - Св. апостолов Петра и Павла. В д. Солозеро стояла церковь Тихвинской Богоматери. Ничто не сохранили» (рисунки 2.167-2.168) [25, фото].

Рисунок 2.167 - Церковь Богоявления Господня (XVII в.), с. Кянда. Фото конца XIX в. [25, фото].

Рисунок 2.168 - Шатровая церковь Богоявления Господня (XVII в.), и церковь Св. апостолов Петра и Павла (XIX в.), с. Кянда. Фото конца XIX в. [25, фото].
Дополнить приведенную выше характеристику деревни Кянда позволяют сведения из архива краеведческого музея города Онеги, составленные по воспоминаниям местных жителей деревни, хранящимся в архиве Л.Е. Бушмановой, уроженки деревни Кянда [82, фото].
«Местоположение. Старинное поморское село, расположено на западном побережье Онежского п-ва (т.н. Лямицкий (Онежский) Берег Белого моря), в 5-ти км от устья одноименной реки, в месте слияния р.р. Кянда и Воя. Село окружают моренные холмы - «горы», с которых открывается великолепный вид на окрестности (см. фотогалерею). Расстояние от г. Онеги - 55 км по автодороге Онега - Архангельск. С районным центром, г. Онегой, село связывает автобусное сообщение (2 рейса в день) и многочисленные рейсы маршрутных такси «Онега - Архангельск» (рисунок 2.169) [82, фото].

Рисунок 2.169 - Деревня Кянда - с. Кянда.. Центральная часть села. Вид с горы Селецкой (автор съемки неизвестен, 2007 г.) [82, фото].
Деревни. Городок (основная часть села со стороны г. Онеги). Верховье. Новая деревня. Воя. Пёлнас. Мугалы. Низ. Заболотье.
Приходские храмы (см. также «Кяндский приход»). Достопримечательности. До недавнего времени в селе находились два перестроенных церковных здания: летней шатровой Богоявленской ц. (1668 г.) с приделом Св. Ап. Петра и Павла и зимней, двухшатровой Вознесенской ц. с приделами: Благовещения Пр. Богородицы и ВЛКМ - ка Георгия Победоносца (1883 г.). В первом располагался колхозный зерносклад, во втором - сначала школьный класс, потом - сельский клуб. Летом 1996 г., от попадания молнии, сгорел Богоявленский храм. С 30 на 31 марта 2000 г. погибло в огне здание Вознесенской ц. По воспоминаниям местных старожилов, в окрестностях села находились три часовни, несколько поклонных крестов, но ничего из этого до наших дней не сохранилось.
На сегодняшний день в селе сохранилось несколько старых построек, в том числе (см. фотогалерею): дом Агафёлова Григория Павловича (нач. XX в., узел связи), здание школы (1908 г., построено Агафёловым Г.П. на деньги его сына Антона и на пожертвования благотворителей). Старый мост через р. Вою в аварийном состоянии. С зимы 2006-2007 гг., общими усилиями, на «церковном месте» строится часовня Св. Ап. Петра и Павла (см. фотогалерею).
Население. 1833 г. - 651житель при 107 дворах. 1865 г. - 573 жителя при 106 дворах. 1895 г. - 1060 жителей при 138 дворах. 1918 г. - 1182 жителя при 204 дворах. 1920 г. - 1026 жителей при 210 дворах. 1998 г. - 195 жителей при 86 постоянных хозяйствах. 2000 г. - 185 жителей при 78 постоянных хозяйствах. 2008 г. - 165 жителей при 75 постоянных хозяйствах.
Основные занятия жителей. Испокон веков жители промышляли рыболовством, зверобойным промыслом, сельским хозяйством, отходничеством (заготовка и сплав леса, работа на лесопильных заводах). В Советское время получило развитие животноводство.
Административная принадлежность. С 1785 г. - центр одноименной волости Онежского уезда Архангельской губернии. С 1919 г. - центр одноименного с/с. С 1960 г. - в составе Тамицкого с\с. На 1998 г. - в составе Тамицкой администрации. На 2008 г. - в составе МО «Покровское».
Хозяйственный статус. 1923-1924 гг. - образование мелиоративного товарищества (94 хозяйства). 1926-1928 гг. - организация 5 ТОЗ (товариществ обработки земли). 1929 г. - ТОЗы объединяются в одну артель. Апрель 1930 г. - артель, объединившая почти все население села, становится колхозом им. Сталина. К 1935 г. в колхоз вошло 142 хозяйства - 100 % . Октябрь 1957 г. - колхозы с.с Кянда и Тамица объединились в один - им. В.И. Ленина, рыболовецко-сельскохозяйственный. В 1960 г. присоединился колхоз с. Покровское. В 1962 г. - колхоз с. Подпорожье [82].
Интерес также представляют сведения из статьи краеведа С. Головченко «Описание старинной фотографии», подготовленной по материалам архива Онежского музея и рассказам местных жителей из архива Л.Е. Бушмановой (Кянда) и опубликованной на портале «Onegaonline» с приложением фотографии общего вида Кяндского храмового комплекса, датируемой началом XX века (рисунок 2.168) [82, фото]. «Перед нами фото начала 20 века, на котором запечатлен еще один погибший деревянный храмовый комплекс Онежского Поморья, находившийся в старинном с. Кянда - центре бывшего Кяндского прихода и одноименной волости (в 55 км от г. Онеги по дороге на Архангельск (см. карту в разделе «Кяндский приход» - ред.). На 1896 год, кроме села, в приход входили: выселок Кяндозеро и д. Солозеро.
О времени образования с. Кянды точных данных не имеется, но несомненно, что оно древнее. Летняя Богоявленская шатровая церковь (на фото справа) была построена в 1668 году. Зимний Вознесенский храм, с колокольней над папертью, построен в 1883 году вместо сгоревших в 1879 году шестиглавой двухэтажной Благовещенской церкви (1794 г.) и колокольни (1774 г.). Он строился на средства купеческой семьи Полежаевых (Николая Дмитриевича и Александры Григорьевны) из Петербурга и прихожан. Также Полежаевы подарили приходу благовестный колокол в 50 пудов (ок. 800 кг). А второй по весу колокол в 32 пуда 5 фунтов (ок. 514 кг), разбившийся во время пожара 1879 г., был перелит в Петербурге на заводе В.М. Орлова на средства прихожан (292 руб. 52 коп.) и стараниями уроженца деревни Михаила Константиновича Мосеева. На колоколе была вылита надпись: « Колокол Перелит на Средства Прихожан Кяндскаго Прихода Онежскаго Уезда Арх. Губ. В Возблагодарение Господу Богу за Чудесное Спасение Его Императорскаго Величества с Августейшим Семейством 17 Октября 1888 Г. на Курско-Харьковской Ж.Д.»...
Этот храм, использовавшийся под клуб, сгорел с 30 на 31 марта 2000 года, а Богоявленская церковь, в которой был склад, - в 1996 году, от попадания молнии. На храмовом месте силами жителей села, с помощью благотворителей с зимы 2006-2007 гг. строится часовня Св. Ап. Петра и Павла (см. фотогалерею)» (рисунок 2.170) [82, фото].

Рисунок 2.170 - Деревня Кянда - с. Кянда. Часовня Святых Апостолов Петра и Павла и мост через р. Вою. Часовня Св. Апостолов Петра и Павла - многовековых покровителей села (фото А.Я. Венедиктова (Онега), 25 декабря 2008 г.) [82, фото].
Жители села издревле занимались морскими промыслами, хлебопашеством, скотоводством, солеварением, рубкой и сплавом леса, работали за пределами волости. На 1917-1918 гг. в Кянде проживало 1182 человека при 204 дворах, в д. Солозеро - 75 человек при 13 дворах. К 01.01.1998 г. население сократилось до 195 человек, число постоянных хозяйств - 86. Д. Солозеро (в 37 км к востоку от Кянды, на берегу большого озера Солозера) опустела в 1950-х гг.
В настоящее время через Кянду проходит автодорога на Архангельск. С районным центром (г. Онегой) существует автобусное сообщение. Есть магазины, узел связи, фельдшерский пункт. Вот только школы теперь своей нет» [82, фото].
Необходимо также отметить, что на портале «Onegaonline» краеведом С. Головченко опубликована еще одна статья под названием «Кянда. Освящение новой часовни», подготовленная по материалам районной газеты «Онега» за 2009 год, с приложением фотографии общего вида часовни Святых Апостолов Петра и Павла, датируемой 2008 годом (рисунок 2.171) [82, фото].

Рисунок 2.171 - д. Кянда. Общий снимок после освящения часовни Святых Апостолов Петра и Павла. Жители села и прихожане Св.-Троицкого собора г. Онеги (фото А.Я. Венедиктова (Онега), 25 декабря 2008 г.) [82, фото].
«День 25 декабря 2008 года запомнится жителям села Кянда на многие годы. Он для них стал историческим. В этот день была освящена новая часовня в честь Св. Апостолов Петра и Павла – многовековых покровителей села.
Построили ее на месте двух деревянных храмов (см. раздел «Кяндский приход»), погибших в огне пожаров (в 1996 и 2000 гг.). В одной из них – шатровой летней Богоявленской (1668 г.) издревле был придел в честь Первоверховных Апостолов.
Часовня сооружена на средства жителей, с помощью различных предприятий и организаций Онежского района, в том числе рыболовецко-животноводческого колхоза им. Ленина (в который и входит село), предпринимателей. А инициатором и организатором постройки стала активный общественный деятель села, председатель Совета ветеранов - Людмила Ефимовна Бушманова.
Ей одной ведомо, как трудно далось это дело. Требовалось многое: организовать православную общину, выбить участок под строительство, очистить территорию от мусора, камней, обгоревших бревен, организовать отсыпку площадки гравием, сделать проект, собрать денежные средства, приобрести стройматериалы, договориться с плотниками…
Но все это, Слава Богу, позади, благодаря личному вкладу многих людей. Людмила Ефимовна убедительно просила написать в газете слова благодарности всем, кто откликнулся на ее просьбу о помощи. Теперь, если жители Кянды будут молиться, - Господь не позволит селу «умереть», будет способствовать его полнокровной жизни и развитию. Нельзя не назвать имя основного помощника Л.Е. Бушмановой во всех хлопотах по часовне - это Борис Павлович Кузнецов…
На сельский праздник приехали представители православной общины Св.-Троицкого собора г. Онега во главе с его настоятелем, протоиереем отцом Александром, который и совершил чин освящения часовни, отслужил молебен. Ещё попутно были освящены: новый деревянный мост через р. Воя и сельский магазин» [82, фото].
Необходимо также упомянуть о сведениях, представленных на портале «Оnegaonline.ru» в виде набора фотографий общего вида деревни Кянда и ее отдельных построек и сооружений (рисунки 2.172-2.177) [82, фото].

Рисунок 2.172 - Деревня Кянда - с. Кянда. Богоявленская ц. (1668 г.) без шатра. Колхозный склад. Памятник сгорел в 1996 г. Фото 1986 г. из архива музея г. Онега [82, фото].

Рисунок 2.173 - Деревня Кянда - с. Кянда. Живописный уголок села. Вдали - д. Низ (автор съемки неизвестен, 1 февраля 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.174 - Деревня Кянда - с. Кянда. Собрание на мосту. Воробьи не пропускают через мост, пока их не покормишь (автор съемки неизвестен, 1 февраля 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.175 - Деревня Кянда - с. Кянда. Часть с. Кянда под названием Пёлнас и Низ. Вид с горы Селецкой (автор съемки неизвестен, 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.176 - Деревня Кянда - с. Кянда. Старинное здание школы. Здание построил Агафёлов Григорий Павлович в нач.XX в. на средства состоятельного сына Антона (автор съемки неизвестен, 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.177 - Деревня Кянда - с. Кянда. Дом Агафелова Григория Павловича (кон. XIX в.). Сейчас в этом доме узел связи (автор съемки неизвестен, 2007 г.) [82, фото].
В перспективе Кяндская групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.1.8 Лямицкая ГСНМ, Пурнемская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
Лямицкая групповая система населенных мест находится в северной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 129 км к северу от районного центра - города Онеги и на расстоянии 26 км к северу от села Пурнема - Пурнемское - Пурнемская (д. Верховье (дд. Верховье и Заболотье) и д. Низ (дд. Середний Посад, Низ, Клюка и Заканава)) - административного центра Пурнемской сельской администрации.
Лямицкая ГСНМ расположена на правом северном берегу реки Лямцы, впадающей с северо-востока в Онежскую губу Белого моря, и образовалась в результате срастания деревень Колония, Верховье и Заручей (рисунки 2.1, 2.30, 2.178-2.181) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 11; 82, карты; 44, с. 28, 160, прим. 21; 81, карты].
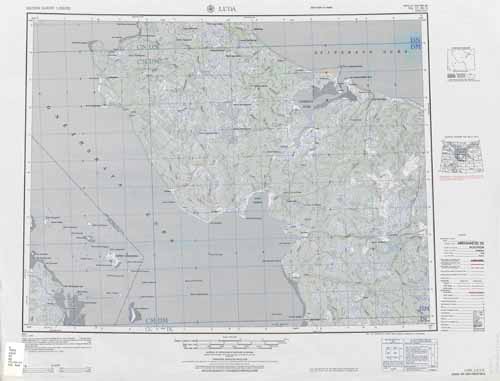
Рисунок 2.178 - Карта «Eastern Europe 1:250000. Luda. Edition 2 - AMS. Refer to this map as: NQ 37, 38-13. Series N 501. 1954 (архивный номер - G 7010 S 250 U5 NQ 37,38-13 PCL MAP») (адрес - http://img.readtiger.com/wkp/ru/USSR_map_NQ_37-13_Luda.jpg) [81, карта].
На период полевых работ Историко-архитектурной экспедиции Петрозаводского государственного университета 1987 года в деревне Лямца - Лямецкая - с. Лямца - Лямица - Усть-Лямицкое - Лямицкое - Лямецкое - Лямцы (дд. Колония, Верховье и Заручей) насчитывалось 104 жилых дома. Архитектурно-типологическое описание планировки и застройки Лямицкой ГСНМ, содержащееся в формуле «К1/2(2)(01.3->01.1), ПК1/1, Т1/2(1), ПТ1, В2/1(1), ПВ5:[ПВ2/1(1)(01.1)(02.1)->ПВ1], Р1», приведено в приложении А и в таблице Б.1.
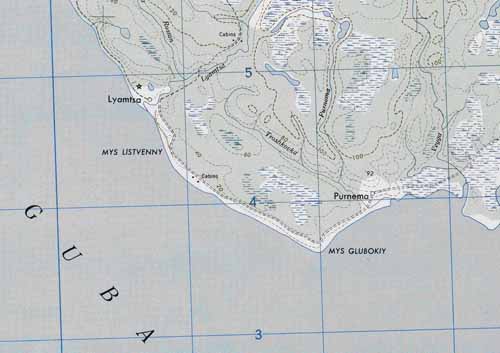
Рисунок 2.179 - Деревня Лямца (фрагмент карты «Eastern Europe 1:250000. Luda. Edition 2 - AMS. Refer to this map as: NQ 37, 38-13. Series N 501. 1954 (архивный номер – G 7010 S 250 U5 NQ 37,38-13 PCL MAP») (адрес - http://img.readtiger.com/wkp/ru/USSR_map_NQ_37-13_Luda.jpg) [81, карта].

Рисунок 2.180 - Деревня Лямца - Лямецкая - с. Лямца - Лямица - Усть-Лямицкое - Лямицкое - Лямецкое - Лямцы (дд. Колония, Верховье и Заручей). Топографическая карта 1970-х гг. [82, карта].
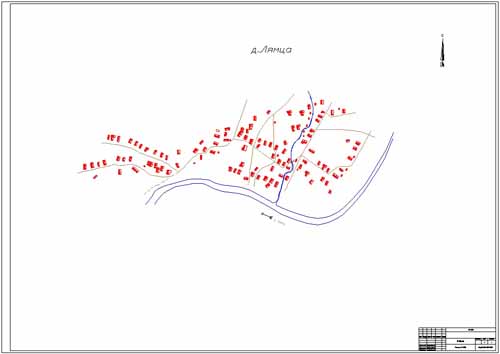
Рисунок 2.181 - Деревня Лямца - Лямецкая - с. Лямца - Лямица - Усть-Лямицкое - Лямицкое - Лямецкое - Лямцы (дд. Колония, Верховье и Заручей), Пурнемская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
Дополнить приведенную характеристику Лямицкой ГСНМ позволяют сведения, приведенные в статье архитектора П.П. Медведева «Принципы и приемы архитектурно-пространственной организации жилой среды сельских поселений Беломорского Поморья» [45]. «Наметив диапазон возможных композиционных решений по расположению культовых сооружений относительно жилой застройки поселений, автор попытался выявить основные тенденции их эволюционного развития. При проведении такого анализа автор руководствовался следующими соображениями: во-первых, самостоятельный перенос поселений - явление маловероятное в специфических природно-климатических и, особенно, топографических условиях Поморья (прим. 20 - Исключение составляют: деревня Травяная Губа (территория Кандалакшского горсовета Мурманской области), перенесенная в связи со строительством ГЭС на реке Княжей; деревни Выгостров и Мати-Гора (Беломорский район КАССР), частично сдвинутые со своих мест при строительстве Беломоро-Балтийского канала); во-вторых, - перенос культовых сооружений в прошлом считался явлением неординарным, требовал соответствующего разрешения епархиальных церковных властей и фиксировался в обширной переписке «мирских выборных людей» с архиепископом, духовной консисторией или синодом (прим. 21 - К примеру, в 1760 году жители деревни Лямцы (ныне Приморский район Архангельской области) в своем прошении писали: «В Лямецкой волости имеется две святые церкви - одна Святого Пророка Ильи, другая - Преподобных Соловецких Чудотворцев, которые стоят на горы вскрай моря. Подсыпалась гора, уже до пригора одна сажень нужная, а горы крепить некак... Просим соизволения перенести онаи вышеупомянутая церковь на ино место на ту же гору, дале от пригора...» (ЦГАДА, ф. 1201, оп. 5, д. 3850, 1760. Дело о переносе на новое место церкви Пророка Ильи Лямецкой волости - л. 1). С подобной просьбой обращались также жители деревни Ижмы (тот же Приморский район Архангельской области) о переносе теплой Преображенской церкви, на что было получено благословение Преосвященного Рафаила, и церковь, стоявшая прежде на самом берегу реки Ижмы, была перенесена на безопасное место (Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской Епархии. Вып. 1, ..., с. 164))» [45, с. 150-151].
Сведения о поселении Лямца - Лямское содержатся, в частности, на портале «Старые карты Онежского уезда Архангельской губернии, границы уезда» (адрес - http://starye-karty.litera-ru.ru/uezd/arh_karta-onezhskiy_uezd.html) [98]. «Онежский уезд был образован в 1780 г. в ходе административной реформы Екатерины Второй в составе Архангельской области Вологодского наместничества из земель Турчасовского стана Каргопольского уезда. В 1784 г. в составе указанной области вошёл в состав самостоятельного Архангельского наместничества (с 1796 г. губерния). Административным центром уезда был город Онега, известный с 1137 г. (изначально поселение с названием Погост на море)» (рисунки 2.91-2.92) [98, карты].
Дополнить приведенную характеристику Лямецкой групповой система населенных мест позволяют сведения, приведенные в статье архитектора П.П. Медведева «Принципы и приемы архитектурно-пространственной организации жилой среды сельских поселений Беломорского Поморья» [45]. «Наметив диапазон возможных композиционных решений по расположению культовых сооружений относительно жилой застройки поселений, автор попытался выявить основные тенденции их эволюционного развития. При проведении такого анализа автор руководствовался следующими соображениями: во-первых, самостоятельный перенос поселений - явление маловероятное в специфических природно-климатических и, особенно, топографических условиях Поморья (20 - Исключение составляют: деревня Травяная Губа (территория Кандалакшского горсовета Мурманской области), перенесенная в связи со строительством ГЭС на реке Княжей; деревни Выгостров и Мати-Гора (Беломорский район КАССР), частично сдвинутые со своих мест при строительстве Беломоро-Балтийского канала); во-вторых, - перенос культовых сооружений в прошлом считался явлением неординарным, требовал соответствующего разрешения епархиальных церковных властей и фиксировался в обширной переписке «мирских выборных людей» с архиепископом, духовной консисторией или синодом (21 - К примеру, в 1760 году жители деревни Лямцы (ныне Приморский район Архангельской области) в своем прошении писали: «В Лямецкой волости имеется две святые церкви - одна Святого Пророка Ильи, другая - Преподобных Соловецких Чудотворцев, которые стоят на горы вскрай моря. Подсыпалась гора, уже до пригора одна сажень нужная, а горы крепить некак... Просим соизволения перенести онаи вышеупомянутая церковь на ино место на ту же гору, дале от пригора...» (ЦГАДА, ф. 1201, оп. 5, д. 3850, 1760. Дело о переносе на новое место церкви Пророка Ильи Лямецкой волости - л. 1 [108]). С подобной просьбой обращались также жители деревни Ижмы (тот же Приморский район Архангельской области) о переносе теплой Преображенской церкви, на что было получено благословение Преосвященного Рафаила, и церковь, стоявшая прежде на самом берегу реки Ижмы, была перенесена на безопасное место (Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской Епархии. Вып. 1, ..., с. 164 [36, с. 164]))» [45, с. 150-151].
Дополняя выше приведенную характеристику Лямицкой ГСНМ, следует также упомянуть о сведениях из «Краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской епархии» 1896 года [36], согласно которым становится известно, что Лямицкий приход «состоит из села Лямицкаго, расположенного в устье р. Лямцы, впадающей в Онежский залив, и «переселка» Среднинскаго, с одним двором, отстоящаго от с. Лямцы на 40 верстах. В с. Лямца 100 дворов и жителей: 280 м.п. и 307 ж.п.
Время образования прихода неизвестно; ц-вь в нем одна, деревянная, на каменном фундаменте, «теплая», построенная на средства прихожан и освященная 14 фев. 1852 г. по благословению епископа Варлаама. Престолов в ней два: главный - в ч. прока Божия Илии, придельный - во имя Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Церковная утварь посредственна, ризница скудна. Доходов кружечных, кошельковых и свечных в 1894 г. поступило 57 р. 9 к. В Среднинском переселке располагается часовня во имя Св. Муч. Кирика и Иулиты, но празднества в ней не бывает. Причт, состоящий из священника и псаломщика, получает жалования: 156 р. 80 к. и 49 р.; кроме этого имеются в море два «закола» для лова мелкой рыбы. Земли: 5 десятин 1150 саженей сенокоса и 1 дес. 2054 саж. пашни; земля малоплодна. Церковно-приходского попечительства и школы нет.
Священником состоит о. Иосиф Алексеев Боголепов, 65 л., уволенный из низшаго отделения Арх. Дух. семинарии; с 20 июля 1849 г. занимал должность дьячка, с 23 июля 1878 г. - в сане священника. Псаломщиком состоит диакон о.Андрей Иванов Попов, 78 л., исключен из приходскаго училища в 1831 г. и занял должность пономаря, 19 окт. 1889 г. произведен во диакона» [36; 82].
Интерес также представляют статистические данные, опубликованные на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Лямца», в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [82]. Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о селе Лямицкое, правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 234; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о селе Лямецкое (Лямцы), в котором на этот момент насчитывалось 50 дворов, в которых проживало 302 человека (193 - мужского и 199 - женского пола) [82; 92, с. 46].
В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о деревне Лямецкая (Лямца). Количество жилых дворов в ней на данный момент составляло 120 единиц. Количество населения: мужского пола - 317, женского пола - 366 (всего 683 человека). Деревня в это время относилось к Пурнемской волости Лямецкого сельского общества и соответственно к Лямецкому приходу [14, с. 164-165; 82]. А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о деревне Лямецкая (Лямца). В это время в деревне насчитывался 131 двор, в которых проживало 715 человек обоего пола. В данное время деревня относилась к Лямецкой волости Лямецкого сельского общества [82; 93, с. 15].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» имеется упоминание о селе Лямица, в котором по переписи 1920 года насчитывалось 142 двора, а количество населения: мужского пола - 285, женского пола - 393 (всего 678 человек) [82; 84, с. 80]. В результате укрупнения волостей в 1924 году село Лямца вошло в состав Кяндской волости Онежского уезда [82; 95, с. 24-25].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о селе Лямца в составе Лямицкого сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 347; 82].
Упоминание о деревне Лямца содержится также в работе краеведа Г.Б. Дерягина «Окрестности Онеги», опубликованной на сайте «Sudmed-nsmu.narod.ru» [25]. «Лямицкий приход. На 1 января 1895 г. насчитывалось 100 дворов, 587 жителей. Деревянная церковь Св. Ильи на каменном фундаменте одновременно служила маяком. Разобрана комсомольцами в 1930-е годы на дрова. Однако село живет, особенно летом, и в Лямце есть на что посмотреть (читай на нашем сайте статью «Поморские села Пурнема и Лямца» [26]) [25].
Вот, что писал в своей статье Г.Б. Дерягин: «Есть на побережье Белого моря малоизвестные, но удивительные места, такие, например, как старинные поморские села Пурнема и Лямца. Расстояние между ними по берегу моря 25 километров. Чтобы понять красоту беломорского Севера, надо эти километры пройти пешком вдоль дышащего моря. Здесь есть на что посмотреть, и это путешествие способно потрясти человека новизной ощущений, запомниться ему навсегда, заставить размышлять о делах старины и сегодняшнего дня. Кроме того, это путь ухода от суеты, путь познания природы, истории и культуры Беломорья. Большой запас времени позволяет неторопливо насладиться красотой естественного и рукотворного, окунуться в патриархальность быта поморов. К тому же это путешествие наедине с природой укрепляет здоровье.
Пурнема и Лямца. Названия сел явно нерусские. Здесь жили когда-то финно-угорские племена. Они пришли сюда вслед за отступившим ледником, и своего государства к моменту появления здесь русских так и не образовали. Проникновение русских на Север началось еще до принятия Русью христианства, но массовое обживание Поонежья новгородцами началось в XI веке. Большая волна русских переселенцев пришла сюда, спасаясь от насильственного крещения, из-за непринятия новой для язычников веры. Несколько позже, оттесняя угро-финнов, русские вышли к Белому морю. В конце XI - начале XII веков они уже строили свои суда и плавали в море. Исторические документы подтверждают, что в XII веке приходили сюда ватаги ушкуйников с тем, чтобы присоединить северные земли к Великому Новгороду. Как знак княжеской и церковной власти на колонизированных землях воздвигались часовни и церкви, а языческое население обращалось в христианскую веру. Основной же поток русских пришел сюда в XIII веке в поисках необжитых богатых мест, свободных от княжеской власти, а также спасаясь от татаро-монгольского нашествия. Пришельцы селились в основном там, где жили до них местные племена - в наиболее удобных для обитания местах, в основном, по берегам небольших заливов, которые здесь называются губами, или в низовьях рек и речушек, славившихся рыбой. Кроме того, река является средством коммуникации в любое время года и постоянным источником пресной воды. Названия рек были финно-угорскими, и по их названию стали называться новые русские поселения. Их старались ставить так, чтобы они были незаметны с моря - разумная мера предосторожности, так как сюда в те времена часто наведывались скандинавы в поисках разбойной добычи. Это очень хорошо это видно на примере Лямцы. Всё село скрыто в складках местности среди невысоких гор за небольшой бухточкой.
Год основания Лямцы и Пурнемы до нас не дошел, но, по свидетельству такого авторитетного исследователя, как Ксения Петровна Гемп, в начале XII века эти села уже существовали. Деревни на берегах моря.
Быт. Поморьем раньше называли земли, лежащие по берегам реки Онеги и Белого моря. А жителей этого региона называли поморами. Позже поморами стали называть жителей поселений по берегам всех рек и морей Европейского Севера России. Поморские села, как правило, крупные. Богатые промысловые угодья способствовали этому. Промысел вели артелью. Всем миром жить было легче, да иначе в северных экстремальных условиях жить было и нельзя. На 1 января 1895 года в Пурнеме было 827 жителей и 132 двора, а в Лямце - 587 жителей и 100 дворов. Даже в наше время эти села крупнее многих других.
Хорошее жилье - основа существования крестьянина. Один дом обычно стоил половину стоимости всего крестьянского хозяйства. В свой дом помор вкладывал свою душу, вот почему поморские сёла смотрятся так величественно. Дома в них большие, добротные, часто двухэтажные, стоят на высоких подклетах, но строгие, без к особых украшений. В планировке сел есть закономерность - дома ставили так, чтобы и вид из окон был хороший, и соседу не мешало, и вид села не портило. На постройку изб, церквей отбирали крупные смолистые сосны. Их рубили в морозы топором и никогда не пилили, так как у спиленного дерева поры легко впитывают влагу, и бревно быстро загнивает, а у срубленной сосны поры запечатаны смолой на века. Срубленные стволы всегда тесали, очищая от сучьев и коры, высушивали. Рубили избу без гвоздей в «обло», то есть с торчащими, наложенными друг на друга концами бревен по углам строения. Эти концы бревен еще «обтяпывали» топором, чтобы закрыть поры наверняка. В «лапу», то есть без выступания концов бревен рубили реже.
С большим мастерством плотники делали пазы, врубки, потайные зубья, подгоняли бревна одно к другому так, что между ними невозможно было просунуть клинок ножа. Затем стыки бревен еще мшили - затыкали мхом. Сруб традиционно укладывали на фундамент из гранитных валунов. Конек, т.е. верхний стык двух скатов кровли прикрывался выдолбленным бревном, который назывался охлупень, или шелом. Под одной кровлей с жилым помещением была и хозяйственная часть дома, тоже, как правило, двухэтажная, поставленная к жилой части дома «коробом» (является продолжением жилой части) или «глаголем» (смешена в сторону по отношению к жилой части дома). На повети - втором этаже хозяйственной части избы держали инвентарь, сено. Туда с улицы вел настил - взвоз с площадкой перед широкими воротами повети. По взвозу воз завозился лошадью прямо на второй этаж хозяйственной постройки. Сейчас у многих домов взвозы отсутствуют, так как разобраны на дрова за ненадобностью, а часть домов по той же причине лишилась и хозяйственных построек, на первом этаже которых раньше жил скот. В морозы, в непогоду можно было подоить коров, задать им корм, не выходя на улицу. Очень все приспособлено к суровым природным условиям! Хозяйственная часть дома отделялась от жилой части коридором. Воздух в жилье всегда был сухой и свежий, запахи от животных в жилье никогда не проникали. Эти дома обладают еще свойством зимой хорошо держать тепло, а в летнюю, нестерпимую из-за высокой влажности жару, там всегда приятная прохлада. Дома в основном ставили четырехстенные и пятистенные (с бревенчатой стеной по середине, разделяющей дом на две половины), иногда шестистенные (дом разделяли две бревенчатые стены с комнатами между ними), часто двухэтажные, так называемых «лачуг» не было. Шестистенные дома ставили реже пятистенных, так как они получались широкими, что препятствовало быстрому стеканию воды и схода снега с крыш» (рисунки 2.182-2.183) [26, фото].
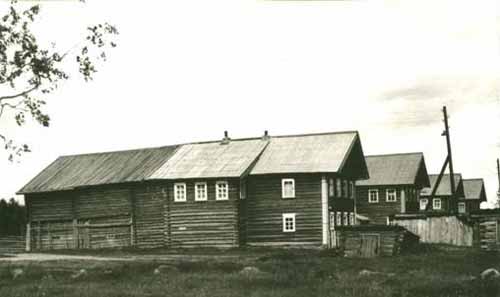
Рисунок 2.182 - Северные дома. Хозяйственная постройка примыкает к жилой части дома «кробом» (фото Б.Г. Дерягина, время съемки неизвестно) [26, фото].
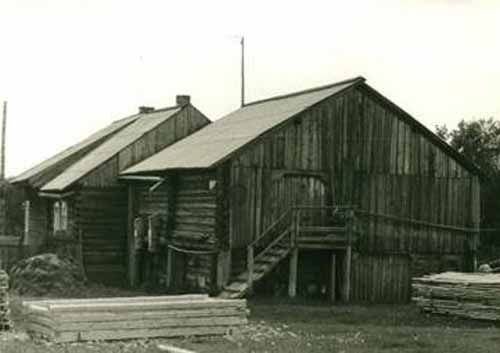
Рисунок 2.183 - Северный дом. Хозяйственная постройка поставлена к жилой части дома «глаголем» (фото Б.Г. Дерягина, время съемки неизвестно) [26, фото].
«Когда заходишь в избу, то первым делом видишь массивную беленую русскую печь с различными приспособлениями для сушки одежды, с лежанкой и приступочкой под ней. Между печью и входом в углу всегда находится умывальник, В переднем углу избы висели, да и сейчас висят иконы. На стенах деревенских домов с 19 века до сих пор висит много фотографий родственников в рамках, при этом чаще в одну рамку собрано много фотографий. Полы застланы домоткаными половиками, многие женщины умеют их плести и сейчас.
Поморы жили вольно, небедно, так как много работали на себя. Каждый помор как рачительный хозяин вкладывал в своё хозяйство труд, деньги, разные материалы ради собственного пропитания и надежды получить доходы. Чем больше в семье было детей, тем больше работников. К тому же, на Севере никогда не было крепостного права, жили без помещиков, сами себе хозяева. Двор крестьянина - помора состоял из множества построек различного назначения: баня, амбары, овины, погреба, ямы для хранения картофеля, ледники и прочие. У помора было большое количество всякой хозяйственной утвари, всяких житейских запасов. Крестьянский двор - это все, имеющиеся на нем постройки. Дворище - это земельная площадь, на которой находились эти постройки. Двор обычно огораживали тыном или огородом из жердей, выездные ворота образовывались двумя столбами (вереями). Крестьянину нужно было столько земли, сколько он и члены его семьи могли обработать. Во дворе хранились сельскохозяйственные и промысловые орудия.
Система полеводства на Поморье была трехпольной. Первый год поле засевалось яровым хлебом, на второй год оно стояло под паром, а на третий год поле засевали озимым хлебом. Почву удобряли навозом, перегнившими водорослями и торфом. Навозом обычно удобряли поля, предназначенные под яровой хлеб, и частично паровые поля. Поля под озимые культуры навозом не удобряли. Хлебопашество было незначительным из-за малой пригодности почв и климата. Своего хлеба хватало на 3-6 месяцев, остальной хлеб приобретали на стороне. Хлебные общественные склады назывались «магазея». На огородах уже в XIV-XV веках выращивали капусту, репу и другие овощи. Картофель появился только в конце XVIII, в начале XIX века и быстро занял господствующее положение на огородах. Внедрение его в поморский быт произошло благодаря указу Сената от 2 апреля 1765 года, «дабы в случае хлебного недостатка некоторое подспорье сделаться могло». На Север была прислана и инструкция по посадке картофеля: «Оные земляные яблоки сеются или садятся нижеследующим образом: весною взяв яблоко, во сколько частей, сколько на нём рубчиков или самородных ямочек, наподобие глаз есть, изрезать и посадить оные частицы в черную землю, которая была бы несколько сыровата. Глубиною в землю от 6 до 7 вершков, которые осенью и вырывать и из них большие собирать, а малые оставлять, от чего и впредь плод будет. И ежели мелкие яблоки два года из земли не вынимать, то оные могут плод свой умножить. Такие яблоки будут гораздо крупнее, трава от тех яблок вырастет в высоту аршина на полтора».
Ягоды и грибы заготавливали на зиму в больших количествах, за ними в лес ходили жонки, девки и детишки. Мужики этими заготовками не занимались. Они промышляли рыбу, морского и лесного зверя, варили соль. Без соли невозможно было сохранить рыбу и другие запасы, поэтому она ценилась.
Сенокос начинался за неделю до Ильина дня, на него выезжали все от мала до велика. Начало уборки хлеба также было общее деревенское событие, праздник. После косьбы вязали снопы и укладывали их в суслоны (бабки). Снопы обычно сушили на кольях - жердях-пряслах (пряслили), а также на изгородях, в овинах, на крышах и т.д. молотьба производилась разными орудиями и способами, вершиной усовершенствования этого процесса являлся цеп. Гумно на протяжении многих веков оставалось без изменений. Веяние осуществлялось при помощи деревянной лопаты и решета. Ручные жернова были практически в каждом доме. Ветряные мельницы появились на Севере в XV веке, а водяные - в XVII веке. Для смазки рабочих частей мельниц применяли смолу и деготь. Самодельные устройства для перегонки дегтя также были почти в каждом хозяйстве. Это был обыкновенный большой чугунок, набитый мелко нарубленной берестой. В земле вырывали яму, над ней устанавливали лист железа, на него клали перевернутый чугун (дном вверх). Его замазывали глиной. На чугуне разводился огонь, деготь капал на железный лист и через его отверстия стекал в сосуд, установленный в яме.
Крестьянская усадьба составляла потомственное владение семейства и переходила по наследству. При отсутствии наследника усадьба признавалась выморочной и поступала в распоряжение сельского общества. Главным органом крестьянского самоуправления являлся сельский сход. Любой приговор сельского схода признавался законным, когда он принимался более, чем половиной голосов лиц, имеющих право голоса. Решение же дел, касающихся потребления мирских капиталов принималось не менее, чем двумя третями голосующих. Платежей и повинностей у помора было предостаточно: подушная и оброчная подати, земские сборы, лесной налог на жерди и брёвна, но все они были посильные, труд приносил преумножение состояния.
Морская деятельность требовала грамотности, поэтому грамотность мужского населения северных сел и деревень намного превышала её уровень в сельской местности центральных районов России и Европейских государств. Грамотный промышленник, да ещё знающий норвежский язык был особенно ценен. Грамотными были не только мужчины, но и многие женщины. Бывали случаи, что женщины ходили в море с артелью кормщиками, т.е. мужики были у них в подчинении. Beроятно, поэтому поморы отличались всегда уважительным отношением друг к другу, к себе и к женщинам. Все подчинялись старшим по возрасту или по артели беспрекословно, будь то на промысле или дома, называли друг друга уважительно по имени, отчеству или только по отчеству. Отношения к женщинам и детям всегда были мягкие и ласковые. Женщины отличались крепким здоровьем и красивым телосложением, и здесь сказывался новгородский тип. Одевались они обычно нaрядно, причем особо нарядные платья передавались из поколения в поколения по наследству, хранили их бережно в сундуках. Каждую субботу и накануне праздников женщины мыли дом. «Шоркали» голиком с песком полы (раньше их не красили), подоконники, лестницы, крыльцо и даже стены изб. Дети во всем с малолетства были приучены помогать родителям, ходили в лес за грибами и ягодами. Мальчиков рано начинали брать на промысел.
Интересен и поморский язык, поморская речь. Мысли выражаются точно и красиво, без снобизма, но с достоинством, заслушаешься. И сейчас в живой поморской речи сохранилось очень много старинных, уже непонятных остальным людям слов, протяжное произношение некоторых гласных. У молодых, современных нам потомков поморов речь правильная, без оканья (слабо окающий диалект) и без аканья, с твердым звуком «Г», с верно расставленными ударениями, без резких, пронзительных выкриков. Характерно, что на Поонежье и на Онежском Беломорье звука «Ч» в употреблении не было, вместо него произносили «Ц», например, «волцёк», «быцёк», «бантицек», «црены» и т.д. Эта особенность речи у старых людей сохраняется и поныне: «Ой, доценька, боцёк болит, а нать пойти быцька напоить». При этом звук «Ц» произносится мягко, плавно, а последняя в словах гласная - протяжно, певуче.
Основой питания были хлеб, рыба, ячневая каша и молочные продукты. В рыбном рационе основным блюдом была треска, соленая или жареная беломорская сельдь, семга, зубатка, сиг, камбала, навага. Из четырех последних варили уху, причем рыбу из нее ели как второе блюдо, отдельно. Палтус ловили в Баренцевом море, его любили запекать в пироги. Мясо употребляли, но сравнительно редко, в отличие от рыбы, не каждый день. С мясом варили «шти» с кислой капустой, причем «шти» долго прели в печи. Как уже говорили, капусту, репу, другие овощи выращивали на огородах у домов уже в XIV-XV веках во вcех cелах на Беломорье. Картофель появился только в XIX веке. Ягоды и грибы заготовляли и до сих пор заготовляют на зиму в больших количествах. По праздникам пекли рыбники, пироги с различной начинкой, шаньги, ягодники, калитки, колобки. Чай на Русский Север завезли из Норвегии лишь в начале XIX века, а до этого заваривали кипятком листья ягодных кустарников, ягоды, пили морс. Водку пили лишь в праздники, сейчас кажется удивительным, но на промысел ее не брали. Запойное пьянство было лишь в городах, а в селах оно осуждалось.
Посуда была деревянной, резанной или точеной. Её делали сами или покупали у местного умельца. Резьбой или рисунком посуду не украшали. Резьбой и рисунком украшали ложки, прялки и веретена. Веретенщики Пурнемы славились на все Беломорье, а искусство плетения из бересты туесков, коробов, ковшиков не утрачено и по сей день. В конце XIX века ширпотреб стал навязывать деревне свои товары. Люди будто стали стесняться рубленых стен, начали их обшивать тесом, что коснулось и храмов, внутри стены стали оклеивать обоями. Точеные стулья заменили лавки, появились железные кровати «с шишечками», металлическая посуда вытеснила глиняную и деревянную».
Промыслы. Хлебопашество было незначительным из-за суровости климата и малоплодия почвы. Выращивали рожь, ячмень (жито). Население традиционно занималось промыслами. Промышляли морскую и озерную рыбу, морского и пушного зверя, варили соль, разводили скот, возделывали огороды. Продукты начинали запасать летом так, чтобы хватило на всю зиму с избытком. Хранили запасы в ямах-погребах и в подпольях. Из скота держали коров, овец, лошадей. Были и козы, но свиней до ХХ века на Севере не было, не держали и водоплавающую птицу. Семья среднего достатка имела в среднем 3-5 коров,1-2 лошади, не один десяток овец.
Солеварение в старину также давало средство к безбедному существованию. В Пурнеме сохранились остатки трубопровода XVII века для поступления морской воды к соляной варнице. Солеварение и торговля солью на Беломорье давали хороший доход вплоть до XVIII века, когда соль начали завозить из Норвегии и других европейских государств беспошлинно. Уже с XV-XVI веков на Беломорье было множество соляных варниц. Они были устроены следующим образом. Рылись ямы-колодцы, в которых собиралась соленая вода. Возле этих колодцев ставились огромные котлы и сковороды, называемые «цренами», в них-то и вываривалась соль. На месте соляного промысла строили амбары, стояли кострища дров. Варницу одновременно обслуживало 8-10 человек. Варницу, кроме варщиков, обслуживали кузнец, плотники, дровосеки. Сугрев соли - результат суточной варки обычно составлял 48-50 пудов. За год обычно производили около 120 варь, иногда больше.
Кроме крестьян, варницами владели монастыри. Так, в XVI веке за Соловецким монастырем в Лямце числилось две варницы, а в 1620 году в Нижмозере и в 1627 году в Пурнеме Соловкам принадлежало по 4 варницы. Кяндские варничные места в XVII веке были переданы Кожозерскому монастырю. Соль с побережья Онежской губы Белого моря свозилась в Подпорожье, оттуда шла в Каргополь, а уже из Каргополя развозилась по всей стране. О торговле этой солью есть интересные архивные документы. Дело в том, что торговля солью, как, впрочем, и вся торговля, не всегда велась честно. Нечестные торговцы подмешивали в соль камни - «кардеху». На поступающие от купцов жалобы цари Иван Грозный в 1546 году среагировал милостивым указом: «Которые каргопольцы и турчасовцы, и порожане, и устьмошане учнут соль продавать с кардехой, и тех людей выдавать на поруки, да и заповедь за них на меня, и на себя велел доплатить по два рубля»… В 1711 году по указу Петра Великого на торговлю солью была введена государственная монополия. С тех пор солеварение на Поморье и начало приходить в упадок.
И все же, главным для безбедного существования поморских семей являлся рыбный промысел. Рыбу ловили в Белом море, реках, озерах, за ней ходили и на Мурман. В Онежской губе Белого моря промышляли навагу, камбалу, сельдь, корюшку. В реках промышляли сёмгу, сигов, речную рыбу, жемчуг. На Мурманском берегу ловили треску, сайгу, палтус, зубатку. Местный лов производился на тонях - специально оборудованных на берегу моря местах. Тоня обычно представляла собой рубленую «в обло» приземистую избушку, сарай, там были вешала, даже конюшни, обязательно ледники, места для стоянки карбасов, обработки рыбы и т.д. Рыбаки всегда смотрели на рыбные угодья как на свою собственность, поэтому старались не вредить рыбному промыслу, соблюдали заведенный исстари порядок, держали в чистоте места замета неводов, жилье и пр.
Сельдь ловили только неводами, а навагу и корюшку неводами, удочками, мережами. Удочка являлась, в основном, средством зимнего промысла и делалась с поморским секретом. Для удилища брался можжевеловый прут с сучками, леска 1,5 сажени длиной, на конце которой привязывалось грузило, отлитое из свинца, с вплавленными в него зеркальными блёстками. Выше грузила на леске находился кожаный мешочек с конопляным семенем или какими-нибудь корешками «с заклинаниями», на нижнем конце грузила находилась петля, на которую крепились высушенные морские черви, прошитые нитками по два. Их называли «мысками». Лов на Онежском берегу Белого моря производился без крючков на «мыски», а на Поморском берегу - на крючки с морским червем. Мережами зимой ловили следующим образом: сначала во льду по длине мережи выпешивали прорубь, которую называли «ердан», потом изо льда выкладывали стенки, на них складывали палки, поперек палок ставили лески по длине ердана, а уж после, чтобы ердан не замерзал, всё обкладывалось хвоёй и зарывалось снегом. У «разгона», чтобы осматривать мережу, из досок делали дверцы, их также закидывали снегом. Место для постановки мережи присматривали заранее, до ледостава.
Из рыбы до сих пор традиционно в Пурнеме и Лямце ловят навагу. Ловили ее раньше в больших количествах, причем круглый год, хорошо зарабатывая на этом Летом навагу вялили и сушили, а зимой продавали навагу свежемороженой в специально плетенных для удобства продажи и транспортировки больших двуручных корзинах. Корзины плели сами. Купцы, забирая навагу, иногда привозили пустые корзины обратно под новый улов. На удочки раньше ловили только женщины. Наживкой на крючок испокон веков служит морской червь-пескожил. Его копают лопатой в малую воду на обнаженном дне, причем это своего рода искусство. Морского червя заготавливать и на зиму. Червь длинный и его хватает на несколько крючков. На крючки червя надевают как чулок. Клев на море зависит не от «зорек», а от приливов. Лучший клев в момент прилива, когда навага, корюшка и камбала с приливной волной идут на мелководье в поисках пищи. Ловля на удочку для мужчины считалась недостойным занятием, они ставили сети. Свой дневной улов женщины уносили в корзинах, а мужчины вывозили с помощью лошадей.
Традиционно сами строили и карбасы с тремя килями. Один киль был основной, а два по бортам играли роль полозьев при волочении карбаса по льду, они же обеспечивали и большую устойчивость карбаса на волне. Строили лодьи, на них ходили по Баренцеву морю на мурманские промыслы, в Норвегию. В каждом поморском селе были свои лодейные мастера и судовладельцы. С карбасов ловили сига, крупную камбалу, зубатку. На карбасах ходили к Кольскому полуострову за треской и палтусом, ставили там ярусы. Кроме того, треску ловили на «поддёв» - погружали снасть с грузилом и крючками внутрь стада рыб и резко дергали вверх, крючки зацепляли треску за тело или голову, хвост. Летом корюшку и тресковые головы сушили в печах или вялили на солнце, остальную рыбу солили. Семгу ловили при помощи заборов. Перегораживали частоколом реку, а возле отверстий забора ставили сети. Особенно хороший улов был на речке Вейга, что рядом о Пурнемой. В 1914 в Онежском уезде году выловили 2590 пудов сёмги, наваги, камбалы и корюшки - 8520 пудов, сельди - 8712 пудов, озерной рыбы добыли 5924 пуда.
Но основное количество рыбы добывали на Мурманском берегу у Кольского полуострова. Рыбу там ловили ярусами, а также ловили треску «на поддёв» леской с грузилом и крючками без червей. Леску крепили к руке и резко дёргали вверх. Крючки цепляли треску за что попадет - за голову, хвост, туловище. Ярус состоял из длинной верёвки - хребтовины, к которой были привязаны поводки с крючками - удами. Длина поводков колебалась от 0,5 до 1,5 метров, частота - от 1,5 до 2 метров. Ярус состоял из нескольких тюков, каждый тюк был 150-200 метров длиной, количество тюков доходило до 30-40, а количество крючков - до 14 тысяч и все надо было наживить. На наживку шла мелкая рыбёшка - мойва или песчанка. Ее ловили тягловым методом неводом на мелководье. Артель на ярусном промысле обычно состояла из четырех человек: наживщика, кормщика, вёсельщика и тяглеца. Наживщик наживлял ярус на берегу, а весельщик носил тюки на судно. Затем артель уходила на место лова в море. На месте выбрасывался первый буй и далее начинался выброс яруса. Особенно тяжелой была выборка яруса, основная тяжесть при этом падала на тяглеца и потому на эту «должность» подбирались наиболее крепкие люди. Выборка яруса растягивалась на многие часы.
Суда для ярусного промысла приобретались обычно недорогие и удобные, в основном, шняки, карбасы, которые были открытыми, беспалубными, парусно-гребными. Свой, добытый на Мурмане улов, рыбаки сдавали фактористам и частично привозили домой. На мурманском берегу факторий было много, и онежские поморы имели там свои станы. Все, кто впервые уходил на мурманские промыслы, брали с собой разобранную избушку или бревна из которых рубили становую избу с маленькими сенями. Там же, около своей избушки устраивались амбары, склады, ледники. Своё имущество и снасти поморы обычно оставляли в этих станах под присмотром местных жителей. Нередко оставляли там и свои суда. Воровства не было. В следующем сезоне поморы шли на мурманский промысел к своим судам и снастям пешком через Кемь и Кандалакшу. Свое добро катили за собой в тележках. Тогда существовал такой обычай, что в каждой деревне торговали всем, что нужно было для этих путников. Судовладельцы, которые возвращались домой на своих судах, отправлялись на промыслы своим ходом, набрав команду. Большое значение в жизни поморов имела честность, верность своему слову. Нечестный промышленник обычно оставался на берегу, его никто не брал в артель. Нечестный судовладелец не мог набрать команду. На весь берег прослыть вором никому не было охоты.
Мужское население артелью промышляло тюленя, для этого ходили на Терский берег Кольского полуострова. В феврале - марте, когда тюлени щенятся на льдах Белого моря, начиналась зверобойная компания. Тюленей били «кокотами» - вид багра - и стреляли из ружей. Тюлетей по Поморью добывалось до 300 голов в год. Летом в некоторых селениях по Онежскому берегу занимались ловлей белух. Село Пурнема славилось промыслом белухи - северного трехметрового дельфина белого цвета (поморы часто говорят «белуга», но имеют в виду не рыбу, не известную на севере, а зверя). Этот промысел велся со второй половины июня до конца июля. Писателю - этнографу С.В. Максимову летом 1856 года посчастливилось стать участником такого промысла в Пурнеме. Вот как он описывает его в своей книге «Год на севере»: «Мы были уже почти подле цели. С десяток карбасов плыло в дальних от нас местах. Впереди, прямо против берега, словно большие клочья морской пены, виднелись спины белух. Одна зашипела почти подле самого нашего карбаса и успела обнаружить и горбатую спину, и какую-то дыру на ней, откуда вылетели фонтаном невысокие, но быстро вымеченные брызги воды. Мгновенно схвачена была с ближнего карбаса на наш длинная веревка, которую мы спешили выбирать в то время, когда другие передавали ее на следующий карбас. Долго, до обильного пота тащили мы конец длинной веревки и перебрасывали ее соседям до той поры, пока не выбросали всю, пока не почувствовали в руках ячеи невода, круто и сильно опускавшегося тяжестью своею ко дну. Быстро гребли мы веслами и бежали за веревкой. Думаю, целый час выжидали мы, когда, наконец-то падет эта веревка в наши руки, после того как обойдет сеть меньший круг. Белухи между тем продолжали лещиться и кувыркаться, но ближе к середине того круга, который описывал выметанный невод. Зверь выстает заметно чаще и как будто сердится. У него захватывает от натуги и от гнева дыхание, и он спешит вздохнуть свежим воздухом и, если уже возможно это, так в последний раз перед смертью, которая висит над головой. Быстро хватал хозяин мой кутило и бросал его выстававшему зверю и, сколько можно было заметить это при скорости удара, прямо в дыхало (в дыру, пускавшую фонтан) с быстротою молнии выхватывал он из кутила палку, бросая её прочь в лодку, и в тоже время с поразительной ловкостью выбрасывал в воду и всю веревку, привязанную к кутилу. Другой конец этой веревки он задерживал за карбас и опять-таки, ни минуты не медля, хватался за новое кутило». Затем зверь вытаскивался на берег, там его добивали и свежевали. Только за один, описанный С.В. Максимовым, промысел на каждого участника охоты пришлось выручки по двести рублей ассигнациями.
Основной сбыт добытой рыбы и зверя на Поморье всегда шёл через перекупщиков, которые приезжали сюда из Архангельска, из Вологды и других городов России. Имея судно, поморы везли продавать рыбу на Маргаритинскую ярмарку в г. Архангельск, которая проводилась ежегодно в сентябре. Часть рыбы продавалась в Онеге, часть на Шунгской ярмарке в Повенецком уезде, часть на железнодорожной станции Обозерская, где после строительства железной дороги в начале ХХ века обосновались перекупщики, развозившие рыбу по центральным регионам России. О доходах поморов можно в некоторой степени судить по официальным данным за 1913 год:
Север когда-то был царством парусных и гребных судов. Судостроение на Поморье было одним из главных занятий населения с незапамятных времён. Хозяин, пожелавший построить судно, приглашал к себе в дом мастера. За богатым столом с водочкой, сёмужкой обсуждались детали, каким должно быть судно, намечался срок строительства, составлялся словесный договор. После революции судовладельцев раскулачили, карбасы и лодьи обобществили, продукты промыслов уже не принадлежали поморам, а колхозы вынуждены были сдавать их государству очень невыгодно для себя. Все Белое море стало пограничной зоной, традиционные связи с Норвегией оборвались. С введением колхозов, пограничной зоны и строгих правил рыбинопекции население перестало строить карбасы, и морской промысел свелся только к промыслу наваги и камбалы, а в единичных селах еще и к массовым убийствам тюленей-бельков (новорожденных тюленей) в зимнее время на льду Белого моря. Следствием коренного перелома поморского образа жизни стало безделье, бездуховность и беспробудная запойная пьянка, со всеми вытекающими из нее последствиями, вплоть до деградации некогда глубоко культурного, умного и предприимчивого, достаточно обеспеченного своим трудолюбием общества.
С XIX века мужское население Пурнемы еще ходило на заработки в Пушлахту, где первоначально был основан лесопильный завод Шейнлейна, затем завод перевели в Онегу, и людям пришлось ходить на заработки в город. Ходили на заработки только зимой, в молопригодное для промыслов время. Интересно также, что в Лямце и в Пурнеме после революции были построены первые на севере после Соловков гидроэлектростанции. Сейчас они уже пришли в негодность и заменены дизельными движками, которые из-за экономии топлива работают лишь несколько часов в сутки, по вечерам, так как топливо завозят автомобилями только в зимнее время из-за отсутствия круглогодичной автодороги и прорех в бюджете. В Лямце же, кроме прочего, до революции традиционно занимались лоцманским делом. Часть села имеет название «колония», там жили лоцманские династии. Это была целая каста со своими традициями. Лоцманство на Севере было в большом почете. Лоцманские знания передавались не каждому желающему, а только от отца к сыну, даже зять не имел права быть лоцманом, если его происхождение было не из лоцманской среды.
Религия. Далеко не последнее место в жизни поморов занимала религия. В каждом поморском селении на самом видном месте стоял храм, часто их было несколько. Эти памятники русской культуры гармонично вписаны в природу, кажутся ее частью и украшением, потому мы и восхищаемся ими. Культовое строительство находилось в руках народа, средства на строительство давал народ. На сельском сходе решали, где храм поставить, каким храму быть, и кому доверить строительство. Хороших мастеров на Руси ценили высоко, их труд оплачивался достойно, слава о них ходила далеко за пределами села. Тонким пониманием прекрасного, отменным художественным вкусом руководствовались они при выборе места для постройки храмов. Беломорские храмы, кроме их культового значения, еще выполняли функции маяков. Они были далеко видны с моря, так как ставились на возвышенности, часто над самым морем, как это было в свое время в Лямце» (рисунок 2.184) [26, фото].

Рисунок 2.184 - Храмовый комплекс в с. Малошуйка (фото Б.Г. Дерягина, время съемки неизвестно) [26, фото].
«Люди на Беломорье кормились морем, зависимость их от природы, от стихии влекла за собой и уважительное отношение к тем силам, которые могли даровать удачу или погубить человека. Поэтому перед выходом в море, перед начинанием любого дела большое внимание уделялось и должному исполнению религиозных обрядов. В штормовом море единственным спасательным средством была молитва. Родственники, беспокоясь за судьбу ушедших на промысел, также находили утешение в молитве. В Пурнеме до сих пор сохранилось две церкви. Они стоят рядом за околицей села, и являются той красотой, без которой облик села увянет навсегда, и само село тогда покажется мертвым, призрачным.
Именно здесь стоит уже четыре столетия самая древняя из сохранившихся без реставрации на севере России под открытым небом, а, пожалуй, и на всей Руси деревянная церковь Николы Чудотворца, срубленная без единого гвоздя в 1618 году. Никола Чудотворец считался покровителем путешественников, моряков, торговых людей, его культ на Севере был весьма популярным. Церковь поставлена на месте древней, одноименной, незадолго до этого сожженной врагом. Разграбил Пурнему и сжег церковь бродячий отряд литовцев и поляков, пришедший сюда в «смутное» время - бежавшие на север остатки польско-литовского войска. Игумен Кожозерского монастыря Никон, будущий Патриарх Московский и всея Руси, посещал поморские приходы в одно лето своего игуменства, неоднократно плавал вдоль Онежского берега на Соловки и обратно. Естественно, что побывал он и в Пурнеме, молился в дошедшей до нашего времени Никольской церкви» (рисунок 2.185) [26, фото].

Рисунок 2.185 - Никольская церковь в Пурнеме, 1618 г. (фото Б.Г. Дерягина, время съемки неизвестно) [26, фото].
«Удивительно крепко стоит этот храм. Его строгий и простой шатер не склонился под тяжестью лет. Глубокой древностью веет от потемневших бревен сруба. Подобными шатровыми храмами славилась древняя Русская земля. Возникновение шатрового деревянного зодчества на Руси прямо связано с практикой военно-оборонительного строительства, шатровыми были древние сторожевые башни - веды (от слова ведать, знать). Шатры имеют суровый и неприступный вид - это своего рода символ независимости, наполненный глубоким патриотическим содержанием, символ стремления человека в вышнему. В основание Никольской церкви положен четверик (сруб с четырьмя гранями), на нем стоит восьмерик, равный по высоте половине высоты четверика. Повал - верхняя, расширенная часть сруба восьмерика с резной причелиной (доской, закрывающей наружные концы подкровельных слег). Шатер восьмигранный, ряжевый, обшит тесом, завершен изящной главкой на шейке, которые покрыты осиновым лемехом. Над ребрами четверика, примыкая к граням восьмерика, стоят небольшие короткие бочечки без главок. Алтарный прируб без бочки и без главки, имеет широкий повал и двухскатную крышу, украшенную резьбой причелину с кистями. Четверик с севера, запада и юга заключен в подковообразную галерею, высотой до двух третей четверика, при чем с южной стороны галерея короткая, доходит лишь до половины длины четверика. Крыша галереи односкатная, направлена в сторону от четверика. С северной стороны к галерее примыкают сени, равные по высоте галерее, с двухскатной крышей - явно более поздняя пристройка. В древности храм стоял бревенчатым, и был обшит тесом позже, в XIX веке. Тогда обшивали тесом многие древние храмы - мода такая была.
Весь храм рублен в «обло». При этом способе рубки бревна укладываются в округлые углубления возле их концов, которые выходят за пределы наружной плоскости стены. В сени вело невысокое, некрутое крыльцо на два всхода, ныне разрушенное временем и бездействием людей, забывших свою суть, свои корни. В 1948 году Ксения Петровна Гемп услышала и записала сказ, как ряжевщик (мастер по строительству ряжевых основ) рубил шатер Никольской церкви: «Кажно бревно сам отбирал и клал в шатер с помощниками. Кончили рубить, по крыли шатер тесинами, Кончили строиться во всём, церкву святили. Он взошел на амвон, на колена пал. Сколько бревен в ряж поклал, столько число поклонов в землю положил. Благодаренье говорил, что сил хватило, старый уж был. Батюшко ему тоже на амвоне поклон земной отдал. В церквы все стояли, не уходили».
Вторая церковь в Пурнеме поставлена в I860 году в честь Рождества Христова. Она не затейливая, но интересна тем, что её облик не совсем обычен для Русского Севера. Он больше характерен для церквей XVII века, распространенных в центре России. Однако подобная церковь, только меньших размеров и, конечно же, отличающаяся от этой (нет на Севере одинаковых церквей), есть не так уж и далеко - на Большом Заяцком острове Соловецкого архипелага. Ее в честь апостола Андрея Первозванного, как гласит легенда, в 1702 году собственноручно построил Петр Великий. Возможно, что в данном случае поморы ориентировались на формы царского творения. Перед нами массивная клеть под четырехскатной с небольшим выносом кровлей. На кровле стоит неимоверно узкий вытянутый восьмигранный барабан с четырьмя оконцами, увенчанный уплощенной главкой. С запада к церкви прирублена небольшая трапезная, соединенная с низким четырехгранным срубом звонницы под четырехскатной кровлей. Крыша трапезной обычная - двухскатная. Крыльцо было крытое с одним центральным всходом, низкое. Звонница не сохранилась» (рисунок 2.186) [26, фото].

Рисунок 2.186 - Христорождественская церковь в Пурнеме, 1860 г. (фото Б.Г. Дерягина, время съемки неизвестно) [26, фото].
«Еще в Пурнеме сохранялся до сих пор (до 1990-х) трехсотлетний деревянный мост на ряжевом срубе, перекинутый через глубокий овраг. Ряжевая опора моста срублена из бревен в виде клети и является здесь единственно возможной опорой из-за твердого каменистого дна оврага, куда сваи вбить просто невозможно. Поверх ряжа в продольном направлении уложены ряды прогонов, а в поперечном направлении на них настлана проезжая часть моста. До недавнего времени по этому древнему мосту, крепко, на совесть поставленному, ходили трактора и грузовики. Вероятно, этот мост ремонта не знал.
В отличие от Пурнемы, в Лямце деревянная церковь Ильи Пророка и колокольня, стоявшая отдельно, не сохранились. После революции в церкви был клуб, а затем, под слезы стариков, комсомольцы в тридцатые годы ХХ века разобрали ее на дрова. Храм Ильи Пророка стоял на высоком обрывистом берегу у самого моря и два века служил ориентиром для моряков, был виден далеко.
Крымская война 1854 года. Однако в Лямце все же есть на что посмотреть. Кроме оригинального, впечатляющего ландшафта, там имеется и оригинальный памятник - большой чугунный крест с надписями, у подножия которого сложены неприятельские, в данном случае английские, чугунные ядра. Интересны исторические события, связанные с этим памятником. Во время Крымской войны 1854 года англичане и французы предприняли масштабную вооруженную демонстрацию своей силы у берегов России. Они атаковали не только Крым, но и Кронштадт, Одессу, Петропавловск Камчатский, Соловецкий монастырь, поморские села на берегах Белого моря» (рисунки 2.187-2.188) [26, фото].
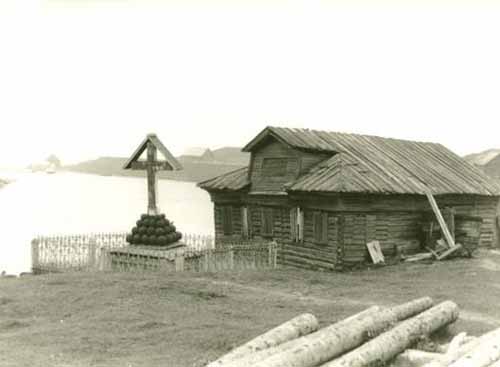
Рисунок 2.187 - Памятник-крест в Лямце, 1860 г. (фото Б.Г. Дерягина, время съемки неизвестно) [26, фото].
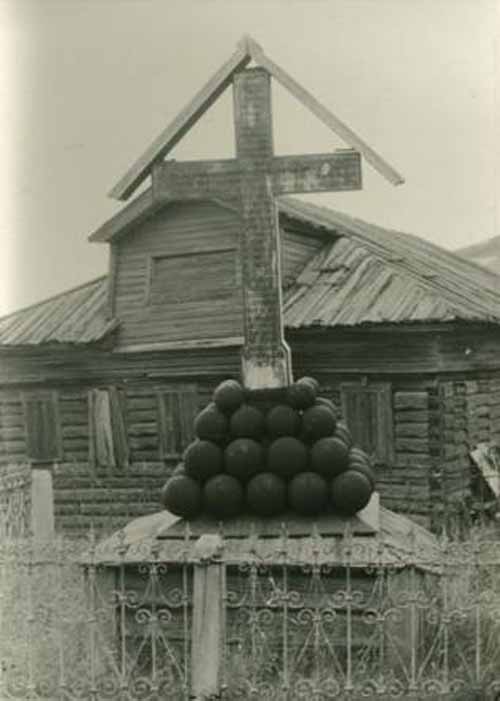
Рисунок 2.188 - Памятник-крест в Лямце, 1860 г. (фото Б.Г. Дерягина, время съемки неизвестно) [26, фото].
«В феврале 1854 года Приморский район Архангельской губернии был объявлен на военном положении, а со 2 марта военное положение распространилось на всю губернию. В первых числах июня 1854 года в Архангельск поступили сведения, что в водах Белого моря замечены английские и французские военные корабли, а именно: три парохода, три парусных фрегата, один бриг, одна шхуна и два парусных тендера. На кораблях была мощная осадная артиллерия. Потерпев неудачу под стенами Соловецкого монастыря, разграбив Андреевскую церковь на Большом Заяцком острове, эскадра 8 июля подошла к Лямце. В селе все взрослые, за исключением пяти стариков и маленьких детей, были на сенокосе либо на промыслах. Воспользовавшись этим, высадившийся на берег враг прихватил с собой в качестве провианта двух быков, восемь баранов, множество кур, после чего отправился дальше к Крестному монастырю на Кий-острове. 9 июля весь день англичане бесчинствовали на Кий-острове, грабили монастырь, но добыча была небольшой, потому что монахи вывезли все ценности в Онегу, а по приходу вражеской эскадры, и далее Онеги - в Андозеро. 10 июля неприятель напал на село Пушлахта, где крестьянам было причинено большое разорение. До начала зимы нападению подверглись многие села по берегам Белого моря. Все торговые и промысловые суда также становились добычей врага.
В мае 1855 года, как только горло моря очистилось ото льда, англичане появились вновь. Их эскадра в этот раз состояла из 7 кораблей. Три корабля встали в устье Двины, а остальные занялись морским разбоем. Они предприняли в еще больших размерах атаки на прибрежные села и становища, уничтожали снасти, грабили и топили торговые суда, промысловые шхуны. 27 июня неприятель снова напал на Лямцу. Ученные жизненным опытом поморы успели увести скот и свои семьи в лес, а сами за земляными валами с ружьями готовились встретить непрошеных гостей. Гордостью поморов была трехфунтовая чугунная пушка, купленная одним из местных поморов уже давно в Норвегии. Пушку сняли с промысловой шхуны и установили на краю села на возвышенности. На пушку возлагались большие надежды. Все прошли краткий курс молодого бойца под руководством осевшего в Лямце отставного солдата Нурмухамеда Изырбаева.
С корабля, вставшего из-за мелководья на расстоянии около одного километра от лямецкого берега, спустили шлюпки, в которых разместилось более 50 вооруженных моряков. Поморы подпустили неприятеля под берег, после чего открыли огонь из пушки и многочисленных ружей. Шлюпки тут же повернули обратно, никто не хотел умирать. Вскоре к кораблей открыли пушечный огонь. С шипением полетели к берегу ядра, некоторые из них залетели в село и подожгли три избы. Канонада длилась три часа. После артподготовки вернулся десант, но и эта попытка врага высадиться на берег оказалась неудачной. Англичане с отливом ушли в море, направившись к Пурнеме. Там они тоже планировали высадить десант, но, говорят, испугались большого облака пыли от деревенского стада. В этом облаке они приняли стадо коров за солдат, а звуки пастушьего рожка за сигнал к бою. Последовала команда сняться с якоря и выйти в море. Потерь среди жителей Лямцы не было, если не считать ранения, которое получил в этом бою дьяк Изюмов.
Благодаря особому расположению Лямцы, при котором село находится как бы в яме среди гористых складок местности, многие ядра попадали в крутой высокий берег или же перелетали за село и падали в болото. Они лежат в болоте до сих пор. Всего с вражеского корабля на берег выпустили свыше 500 ядер, из них 50 были собраны жителями. На сельском сходе лямчане отписали Государю Императору: «Мы, ниже подписавшиеся государственные крестьяне Архангельской губернии Онежского уезда Нижмозерокой волости Пурнемского общества селения Лямцы, на добровольном нашем совещании постановили: для вечного воспоминания в потомстве нашем усердно желаем мы воздвигнуть на Ильинской горе приличный сему событию памятник своими средствами из собранных нами на камнях неприятельских бомб, гранат, картечи и ядер. Памятник сей обязуемся всегда содержать в исправности и ручаемся за свое потомство, что и оно будет в память нашу поддерживать его в отдаленное время. Кругом же памятника устроить решетку». По царскому указу памятник из вражеских бомб отлили в Санкт-Петербурге и установили на видном месте в Лямце в 1860 году. За проявленный героизм отставного солдата Назырбаева царь наградил орденом. По царскому указу серебряной медалью «За храбрость» были награждены крестьяне Иван Совершаев, Александр Лысков - житель Архангельска, гостивший в то время на родине, и дьякон Изюмов. Остальные тридцать защитников села получили из казны по 5 рублей серебром - не плохие по тем временам деньги. Фамилии патриотов отлиты на кресте памятника.
Имеется легенда объясняющая, почему народ поставил этот памятник. Она гласит, что царь повелел выбрать: «Пусть крестьяне в Лямце выберут одну мою милость, либо в рекруты лямецких никогда брать не будут, либо дозволю памятник их героизму поставить. Народ в Лямце рассудил, что лучше все же иметь памятник, так как царь тоже человек - помереть может, а другой царь возьмет, да забудет обещанное. Так и стоит уже полтора столетия этот памятник славным некогда делам поморов.
Природа. Но главной достопримечательностью Беломорья, конечно, является природа. Своеобразны берега Белого моря, то низкие, то гористые, обрывистые, песчаные или скалистые. Золотые песчаные пляжи сменяются то россыпью валунов, то черной донной грязью с запахом сероводорода, так называемой «няшей». Само Белое море не сразу получило известное всем название. По-разному называли его в народе еще в XVII-XVIII веках: Гандвик (море чудовищ), Студеное море, Море-окиян, Дышащее море (из-за череды приливов и отливов), Каянское, Монастырское море, Соловецкое, Тихое. Впервые современное название моря появилось в начале XVII века. «Белое» значит «чистое».
13-15 тысяч лет назад на том месте, где сейчас находится Белое море, был огромный ледник, сползавший со Скандинавии далеко на юг. Мощные потоки льда, толщиной до 2-3 километров, прокладывая свое ложе, смяли верхний слой земной коры и обнажили древние кристаллические породы - граниты, образовавшиеся в самую древнюю эру земной жизни - в архее. Сокрушая и шлифуя их на своем пути, ледник пропахал в земной коре глубокие желоба. Он выламывал глыбы скальных пород, перетирал их в песок, дробил валуны и уносил их с собой далеко на юг. Эти валуны встречаются даже южнее Москвы.
Когда потеплел климат и ледник постепенно растаял, под ним обнаружилась глубокая котловина. Образовалась эта впадина миллионы лет назад, ледник лишь ее расширил и углубил, усеял ее дно валунами. Вода растаявших льдов заполнила котловину, а затем соединилась с водой наступавшего океана. Холодное, сильно опресненное море простиралось далеко от современного Белого. На юго-западе оно доходило почти до Финского залива, а на Востоке доходило до Карского моря. Это море населяли холодолюбивые растения и животные. Среди его обитателей особенно много было двухстворчатых моллюсков иольдий, поэтому древнее море назвали Иольдиевым. Остатки этой фауны живут в холодных водах Белого моря и в наши дни.
Около пяти тысяч лет назад произошло значительное отступление моря в результате подъема его берегов, и оно стало теплым, так как его достигли теплые течения. Часть холодолюбивых животных вымерла, взамен появились теплолюбивые. Среди них было много моллюсков улиток литторин, по имени которых промежуточное море назвали Литториновым. Это море оказалось недолговечным, оно продолжало быстро отступать и вошло в свои современные берега, образовав известное нам Белое море. По сравнению с Литториновым, Белое море значительно мельче и холоднee Литторинового, так как воды теплого течения Атлантики (Гольфстрим) сюда не проникают. Похолодание вызвало исчезновение наиболее теплолюбивого морского населения, некоторые виды приспособились и заселили мелководные прибрежные участки, особенно в теплом мелководном Онежском заливе, где сохранилась морская трава-зостера, мидии, литторины, а также теплолюбивые песчаные черви нереиды и рачки. Балтийский щит, сложенный архейскими породами, продолжает плавно подниматься, в результате этою уровень Белого моря понижается на 1,5-3 метра за тысячелетие. Еще в начале XVIII века, в 1702 году Петр Великий прибыл в Нюхчу на 13 военных кораблях, чтобы затем пройти по строящейся государевой дороге, а теперь Нюхча окружена песчаными отмелями и находится на некотором отдалении от моря. Такая картина на западном берегу моря наблюдается повсеместно.
Движение земной коры время от времени вызывает на Беломорье землетрясения. Их наблюдали еще в древности, это нашло отражение в Карело-финском народном эпосе, а с начала XII века и в русских летописях.
…Камни крепкие трещали,
На скалу скала валилась.
В других исторических документах также неоднократно, практически каждое столетие упоминается о землетрясениях в районе Белого моря. Землетрясения эти относительно слабые, но не проходят для моря бесследно, дно при землетрясениях обычно опускается, а берег поднимается. Пройдут тысячелетия и морские течения, штормовые волны, воды впадающих в море рек, льды и морозы, солнце и ветры разрушат стойкие кристаллические породы берегов материка и островов Белого моря. Посмотрите на прибрежные скалы, и вы увидите, что они буквально отшлифованы водой, как красив рисунок магмы, выкристаллизовавшейся слоями, жилами в архейском периоде.
Белое море замечательный водоем, подобного которому нет на Земном шаре. По природе море арктическое, суровое и холодное. Зимой сюда приходят размножаться арктические животные, а летом в прибрежной части море хорошо прогревается, становится теплым. Летом сюда устремляются на откорм теплолюбивые океанические рыбы, а за ними приходят дельфины - белухи. Глубинные воды моря ниже ста метров имеют постоянную температуру минус 1,5 градуса. Огромный естественный холодильник вмещает половину беломорских вод. Самый теплый - Онежский залив моря. Он мелководный, во время отливов вода отступает далеко, обнажая дно, которое хорошо прогревается солнцем. Во время приливов нагретый верхний слой воды наступает на теплый песок, раскаленные солнцем камни, нагреваясь еще больше, в результате чего температура воды поднимается выше 20 градусов. В жаркие дни верхний, метровый слой воды на Онежском побережье нередко прогревается до 22–25 градусов, а у самого берега, где с удовольствием барахтаются маленькие дети, вода в иные дни ничем не отличается от теплых вод Каспия, ее температура здесь может доходить до 27-30 градусов. Не знающий человек ни за что не поверит, пока не окунется в воды удивительного моря. Но иной раз стоит нырнуть или даже глубоко опустить руку, как чувствуется резкая граница теплого слоя воды с достаточно холодной.
Есть еще интересное явление на Белом море - рефракция, настоящий мираж. В солнечные дни, когда воздух прозрачен, кажется, что далекие, обычно невидимые острова или корабли летят над водой по воздуху, далекий берег может приблизиться так, что подробности разглядишь, не высокий, плоский остров может превратиться в гористый. Автор на закате солнца в открытом море наблюдал и зеленое и синее солнце, вспоминая ранее известный рассказ Соболева «Зеленый луч» (зеленый луч - предвестник скорой гибели корабля и экипажа).
Море имеет три части: воронка, горло, бассейн и четыре больших залива (губы) Кандалакшский, Онежский, Двинской, Мезенский. Самый мелководный, а потому и теплый - Онежский. Осенью море часто штормит. Высота волн сравнительно невелика, они обычно не превышают трех метров, но бывают и до четырех. С конца осени и до мая море покрыто льдами, сплошными у берегов и плавучими в центральной части. За счет впадения в море множества рек, в том числе таких крупных, как Северная Двина, Онега, Мезень, соленость вод здесь много меньше, чем в океане. Воды моря находятся в постоянном движении, течения здесь очень стремительные, особенно в узостях, бывает даже трудно противостоять напору воды на весельной шлюпке. Воды Белого моря быстро обновляются, за год почти половина их заменяется водами Баренцева моря, поэтому здесь нет гибельного для жизни застоя вод, чем Белое море выгодно отличается от других внутренних морей. В тех местах, где течение сильное, обычно ила нет, преобладает песчаное или каменистое дно. Ил имеется там, где течения стихают.
Для Белого моря характерно наличие приливов и отливов. В Онежском заливе уровень воды во время отлива понижается на 3–4 метра, вода отступает далеко от берега, обнажая морское дно. Приливы связаны с притяжением Луны, особенно они высоки, когда Солнце и Луна стоят на одной линии. Два раза в сутки вода уходит от берега и два раза в сутки вода наступает на него. Если во время прилива стоять у кромки воды, то видно как быстро море наступает на сушу, заполняя впадинки дна, соединяя между собой лужицы. Когда море отходит на большое расстояние от берега, говорят: «Малая вода», а когда уровень воды поднимается максимально, говорят: «Полная вода», или «Большая вода». Лунные сутки длиннее наших на 50 минут, поэтому каждый прилив запаздывает примерно на 25 минут, постоянно, таким образом, смещаясь во времени.
Побродите по берегу в малую воду. В лужицах обсохшего дна можно найти мелких рыбок и других животных, в водорослях и под камнями спрятались рачки-бокоплавы, на песке в хорошую погоду лежат зазевавшиеся медузы. Часто попадаются камни, покрытые белыми конусообразными домиками рачков балянусов, со створками на вершине конуса. Когда вода уходит, створки закрываются, но когда моллюск окажется под водой, то он откроет свой домик и начнет вылавливать из вода питательные вещества. На камнях также много маленьких улиток-литторин, встречаются живые мидии и обилие створок погибших мидий, всюду видны домики морских червей-пескожилов, представляющие собой макаронообразные выбросы грунта из кишечника червей. Если присмотреться, то рядом с этой горкой песчаных «макарон» можно увидеть воронкообразное углубление с отверстием, уводящим вглубь - это выход червя, а само животное располагается между домиком и этим выходом, что необходимо учитывать, выкапывая лопатой червя для наживки. Лопату следует погружать на полную глубину и быстро извлекать ею грунт, иначе червь сократится и уйдет. Червя используют для наживки на крючки удочек, донок и продольников. Продольники представляют собой веревку, к которой на коротких отрезках лески привязаны крючки, концы продольника закрепляются колышками или грузом. Донки - это леска с грузилом и двумя - тремя крючками, она закидывается в море и через некоторое время извлекается. Продольники ставятся в малую воду у кройки воды, а в следующий отлив с них снимается рыба.
В Белом море живет 338 видов морских водорослей. Они дают приют огромному числу животных. У берегов растут зеленые водоросли, глубже - бурые, а там, куда практически не проникает свет - красные. Самая крупная из беломорских водорослей - ламинария сахаристая. В длину она может достигать несколько метров. После шторма на берегу остаются целые валы из выброшенных водорослей. Еще в древности поморы удобряли перегнившими водорослями свои огороды. Было подмечено, что в результате этого урожайность удваивалась и даже утраивалась. В наши дни в поморских селах и на дачах, расположенных на морском побережье у города Онеги, также продолжают удобрять огороды водорослями. Название, выброшенных морем водорослей, сохранилось древнее - «тура». Многие водоросли имеют промысловое значение. Их разводят на специальных плантациях, а также косят в море жители некоторых населенных пунктов. Перерабатывают водоросли на Архангельском водорослевом комбинате, где имеется пока единственный в мире музей водорослей. Из водорослей получают много полезных веществ, в том числе йод, агар, органические кислоты, соли, биоактивные пищевые добавки.
Если в отлив идти по обсохшему дну, то можно почувствовать запах сероводорода. Так пахнет донная грязь, образовавшаяся в результате разложения биологических продуктов моря. Она лечебная, содержит большое количество биостимуляторов, множество микроэлементов. Снимите верхний слой донного песка, под ним и будет черная донная сероводородная грязь. Встречаются и лужицы с жидкой грязью. Местное её название - «няша». Знающие люди накладывают на некоторое время донную грязь на пораженные суставы или пораженные участки кожи, иной раз обмазывают себя грязью полностью, затем смывают морской водой. Говорят, что это лечение весьма эффективно.
В море обитает около тысячи видов беспозвоночных. Во всех мелких лужицах неплохо живется всеядным рачкам-бокоплавам. Они обыкновенно прячутся в водорослях и составляют основной корм для мелких рыб. Широко распространен моллюск мидия - мелкие черные ракушки, которые гроздьями прикрепляются к камням и водорослям, образуя большие скопления. Мидия - санитар моря. Каждая особь фильтрует, пропуская через себя, около 3 литров воды в час. Мидиями кормятся рыбы, морские звезды и птицы. Мидия – излюбленная пища гаги, которая гнездится, как и серебристая чайка, на беломорских островах. Мидию поедает и морской куличок, проворно бегающий в малую воду по обнаженному дну. В годы Великой Отечественной войны отряды школьников собирали мидию, а затем этим моллюском кормили раненых в госпиталях. У тех, кто ел мидии, раны заживали быстрее, было меньше гнойных осложнений. В хорошую штилевую погоду море буквально усыпано куполами медуз, которые заранее, за много часов предчувствуют приближение шторма и уходят на глубину. Если посчастливится, то можно наблюдать, как переливаются всеми цветами радуги граненные, прозрачные, слизеобразные гребневики, размером с небольшой огурец. Купаясь в море можно встретить креветок, морских звезд. Звезду можно найти и в малую воду. Не стоит пугаться, встретив извивающихся многощетинковых морских червей-нереид.
Из рыб наиболее распространены камбала, навага, корюшка, сиг, сельдь, бычок с местным названием «ревяк». Этим названием он обязан свойству вибрацией тела издавать тихое подобие рева. Местное население считает его «сорной» рыбой и никогда не употребляет в пищу, но по вкусу он напоминает навагу. Кроме того, встречаются зубатка, реже треска. Из проходных рыб здесь имеется семга, угорь минога. Минога - атлантическая рыба, но нерестится она в реке Oнеге в 25 км выше устья. Семгу в старину ловили посредством беломорских заборов - бревенчатых частоколов, вбитых в дно реки таким образом, что забор перегораживал реку. У отверстий забора ставились сети. Эти заборы стояли по несколько десятков, один за другим, начиная от устья Онеги, и на 17 верст выше города до села Подпорожье. Вот, что писал в середине 19 века этнограф С.В. Максимов, посетивший наши края, в своей книге «Год на Севере», за которую он был удостоен Малой золотой медали Императорского Географического общества: «Здесь вылавливается тот сорт беломорской семги, который известен в Петербурге под именем «ПОРОГ» и считается лучшим, причем «ПОРОГ» способен долго хранить свой засол, не теряя вкуса, вида и красного цвета». Именно этот сорт семги со времен патриарха Никона, бывшим в этом краю игуменом Кожозерского монастыря, поставлялся на патриарший и царский стол, а в дальнейшем и на столы советских кремлевских правителей. До конца 1980-х годов в Подпорожье река была перегорожена забором, выловленную семгу сразу на самолете отправляли в Москву. Авторы имели счастье сравнивать вкус семги, выловленной в разных реках Архангельской области и в Норвегии, онежская семга действительно лучше.
В настоящее время рыбные запасы Белого моря, особенно таких рыб как сельдь, семга, треска подорваны в результате неразумных рыболовных и водорослевых промыслов, семга к тому же страдает от загрязнения рек в результате молевого сплава древесины и стока в реки промышленных вод.
В Белом море обитают и млекопитающие. Это гренландский тюлень–лысун, морской заяц-лахтак, трехметровый дельфин белуха, нерпа. Живя вблизи моря, их часто можно видеть. Заходят в море и гренландские киты, даже, говорят, видели касаток. В 1972 году гренландский кит выбросился на Онежский берег в 30 километрах от города Онеги, возле деревни Тамица. Онежане на велосипедах ездили смотреть на это чудо. До конца XIX века в море жили моржи, почти полностью истребленные поморами, сюда по льду заходили и белые медведи. В Белом море обитают и млекопитающие. Летом белуха стадами ходит по всей Онежской губе за стаями рыб, заходит в устье реки Онеги. Автор сам видел, как на большой воде стадо белух паслось в фарватере реки напротив верхней оконечности города, в нескольких километрах выше устья.
По обнаженному песчаному дну моря в штиль идти легко и приятно. В жаркий день от моря исходит бодрящая свежесть, отгоняющая комаров и мошкару. Шелест моря действует успокаивающе. Прибой и лес ионизируют воздух, а он, насыщенный отрицательными ионами и смолистым ароматом сосен, большим количеством фитонцидов (противомикробных веществ растительного происхождения), благотворно воздействует на организм человека. «Чайка села в воду - жди хорошую погоду. Чайка бродит по песку - моряку сулит тоску» - наглядный пример тому всегда перед глазами.
Вдоль моря сплошной темной стеной стоит лес. Из деревьев здесь преобладает сосна, но встречаются и другие породы, характерные для Севера. Приятной будет для туриста встреча с большой лиственной рощей недалеко от Лямцы. Лиственница разрослась тут естественным путем, мощно затейливо, на много километров, оттеснив другие деревья. Уникальная полоса лиственниц в сосновом лесу!
В лесу, кроме комаров, много грибов, имеются все северные ягоды: черника, голубика, брусника, вороника, морошка, малина, клюква, костяника, смородина. Под ногами пружинит мох, всюду цветет вереск, встречаются заросли багульника. Цветение растений буйное, словно спешат цветы насладиться солнцем в короткое северное лето. Единственная неприятность ожидает путника - комары, огромные, полосатые, как тигры, да ещё мошкара, еще злее комаров. Одно слово - гнус. На побережье комаров мало, а в ветреную погоду их совершенно нет, зато в лесу они полновластные хозяева с июня до середины августа. Медведь, волк, лиса, заяц, куница, росомаха, лось, рысь, белка, глухарь, тетерев, рябчик, ворона и ворон, лебедь, журавль, сова, дятел - вот далеко неполный перечень обитателей северной тайги. Звери на человека обычно не нападают. Не стоит лишь в одиночку ходить по морскому побережью вдали от жилья, так как медведи любят бродить вдоль моря в поисках пищи. Увидев человека, они обычно стараются не попадаться ему на глаза, но иногда бывают случаи нападения медведей на людей, раненых медведей, обиженных человеком.
Многие люди забывают, что не одни они пользуется благами природы, не воспитывают в детях бережное отношение к ней. Больно видеть в чьих-нибудь руках большие охапки полевых цветов, особенно островных растений, находящихся на грани исчезновения, занесенных в Красную книгу. Большим бедствием для тайги являются пожары от непогашенных окурков, непотушенных костров. Будем помнить, что наше уважение, к природе вернется к нам ее вниманием к нашему здоровью.
Максимум приятных, свежих впечатлений, а затем воспоминаний подарит любителям экстремального дискомфорта путешествие по Белому морю в села Лямца и Пурнема» [26].
Интерес также представляет работа, подготовленная доктором биологических наук, заведующим лабораторией биосистематики и цитологии Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, членом Совета Русского генеалогического общества, вице-президентом РГО А.В. Родионовым под названием Поморские селения Онежского берега как полигон комплексных генеалогических и генетических исследований» и опубликованная в 2003 году в «Известиях Русского генеалогического общества» [87; 88]. В своей работе А.В. Родионов писал: «…одним из полигонов комплексных генетических и генеалогических исследований могут быть селения поморов Онежского (Лямецкого) берега Белого моря.
Status in statu. Онежским берегом (ОБ) называют юго-западное побережье Онежского полуострова от устья р. Онеги до м. Горболукского. Вдоль берега моря, на расстоянии 25-30 км друг от друга располагаются села Покровское, Тамица, Кянда, Нижмозеро, Пурнема, Лямца и - через 70 км. интервал - Пушлахта. Села ОБ, вследствие своего географически изолированного положения, почти не затронуты индустриализацией и связанной с ней миграцией, что отличает их от большинства сел Поморского и Карельского берегов. Эти села избежали участи «неперспективных» деревень Нечерноземья, Терского и Зимнего берегов - сейчас это многодворные, хорошо сохранившиеся поселения с постоянно живущим, почти исключительно местным по происхождению населением. В обсуждаемом контексте важно, что рассеянные по стране выходцы из этих поморских сел не утратили связи со своей «малой родиной» - представители и потомки большинства местных родов, живших здесь в XVIII-XIX вв., более или менее регулярно приезжают в свои родовые «вотчины» в весенне-осенний период, и потому доступны для современного исследователя.
Происхождение поморов Онежского берега. При формировании генофонда каждого этноса (субэтноса), любой более или менее замкнутой популяции, периоды относительной генетической изолированности, когда браки заключаются только в ее пределах (например, в Поморье в XIX-начале XX вв., круг брачных связей обычно охватывал селения своего берега - см.: [прим. 5 - Бернштам Т.А. Русская народная культура Поморья в XIX-начале XX в. - Л.: Наука, 1983. - С. 118]), сменяются периодами, для которых характерен приток новых, более или менее инородных поселенцев. Иногда мигранты полностью вытесняют предшествующее население. Вспомним распространенные по всему Беломорью легенды об уходе чуди белоглазой после появления новгородцев («чудь в землю ушла <...> живьем закопалась»; «первые годы соседи жили в миру, да строптива была чудь... <...> погнали чудь из города») [прим. 6 - Ефименко П.С. Заволоцкая чудь - Архангельск: 1869 - С. 10, 21; Криничная Н.А. Предания Русского Севера. - СПб.: Наука, 1991 - С. 68-74]. В других случаях возникает смешанная популяция, в той или иной степени изменяющая генетическую структуру местного населения: «от тех населенцев чудского племени взята была в деревню Михалевскую девица в супружество за крестьянина Черепанова. Девица эта была мужественна, имела необыкновенную силу в сравнении с прочими девицами. Потомство же ее уже никак не отличалось от новых ее земляков» [прим. 6 - Ефименко П.С. Заволоцкая чудь - Архангельск: 1869. - С. 10, 21; Криничная Н.А. Предания Русского Севера. - СПб.: Наука, 1991 - С. 68-74]. Молекулярная генеалогия позволяет различать два типа миграций, имеющие разные генетические и культурные последствия: назовем их «переселением» и «набегом» - в первом случае новопоселенцы изменяют генетическую конституцию популяции как по мужской, так и по женской генеалогическим линиям, во втором, генеалогическая структура популяции, исследуемая по матерински наследуемым митохондриальным ДНК сохраняется, а изучаемая по наследованию ДНК Y-хромосом изменяется полностью или частично [прим. 7 - von Haeseler A., Sajantila A., Paabo S. The genetical archeology of the human genome. - Nature Genetics. 1996. - V. 14. P. 135-140]. Будущие исследования генетической структуры популяций современных поморов, возможно, смогут ответить на вопрос, по какому из сценариев шли генеалогические (этногенетические) процессы на побережье Белого моря, где первопоселенцы, так называемые племена ямочной и ямочно-гребенчатой керамики и характерных каменных стрел (2-я четверть II тыс. до н.э.), были замещены племенами турбинского ареала (возможно, финно-угорская этническая общность) (3-я четверть II тыс. до н.э.), замещенных, в свою очередь, протосаамами (культура асбестовой керамики - 900-800 г. до н.э. - рубеж н.э.) [прим. 8 - Куратов А.А., Овсянников О.В. Новейшие археологические исследования на территории Архангельской области // Историография и источниковедение истории северного крестьянства СССР. Северный археографический сборник. Вып. 6. - Вологда. 1978. - С. 3-12]. Следы протосаам (лопи) на Онежском полуострове - топонимы село Лопшеньга на Летнем берегу, мыс Лопалахта на ОБ между Пушлахтой и Золотицей. Протосаамскими по происхождению, вероятно, являются и гидронимы на - ас [прим. 9 - Матвеев А.К. Субстратная топонимика Русского Севера // Вопросы языкознания. - 1964. - № 2. - С. 70-74; Матвеев А.К. Происхождение основных пластов субстратной топонимики Русского Севера // Вопросы языкознания. - 1969. - № 5. - С. 51-52] - напр. озеро Пурас между Пурнемой и Нижмозером и Ас(т)-ручей около Пурнемы. Значение и роль протосаам в предисторическое время, по-видимому, недооцениваются современными историками - анализ ДНК показал, что саами, в отличие от близких им по языку финнов-суоми и других финно-угорски-говорящих этносов, имеют совершенно иное, не индо-европейское происхождение и, в историко-генеалогическом отношении, являются сестринской группой по отношению к другим европейским народам. Финны-суоми и иные финно-угорские племена, наоборот, по происхождению близки индоевропейцам [прим. 10 - Sajantila A., Lahermo P., Anttinen T. et al. Genes and languages in Europe: an analysis of mitochondrial lineages. - Genome Res. 1995. V. 5. P. 42-52; von Haeseler A. et al. The genetical archeology of the human genome. - Nature Genetics. 1996. V. 14. P. 135-140]. Языковая общность современных саами и финнов - следствие огромного культурного влияния, которое оказали протосаами на протофиннов, потомки которых занимают сейчас такой огромный ареал в Европе - феномен, сопоставимый с распространением романских языков в Зап. Европе, русского в Евразии, арабского в арабском мире и т.д. Данные микротопонимики показывают, что племена, близкие по языку финнам-суоми, людикам, ливвикам и северным карелам, непосредственно предшествовали появлению на берегах Белого моря славян [прим. 9 - Матвеев А.К. Субстратная топонимика Русского Севера // Вопросы языкознания. - 1964. - № 2. - С. 70-74; Матвеев А.К. Происхождение основных пластов субстратной топонимики Русского Севера // Вопросы языкознания. - 1969. - № 5. - С. 51-52]. Насколько массовыми были брачные связи между волнами мигрантов на берегах Белого моря, приведшие к формированию поморского субэтноса, как связано изменение культурных пластов в истории Поморья с изменениями генетической структуры местного населения неизвестно, однако вполне может быть выяснено с помощью молекулярной генеалогии при исследовании митохондриальных ДНК и гаплотипов Y-хромосом древних родов современных поморов.
Полиэтническое происхождение поморов ОБ отражено в записанных в XIX-XX вв. легендах о происхождении отдельных сел и подтверждается данными письменных источников XVI-XX вв. Почему-то принято считать, что ОБ заселялся новгородцами в XVII в. [прим. 11 - Бернштам Т.А. Поморы. Формирование группы и система хозяйства. - Л.: Наука, 1978. - С.. 44-45; 38; Гемп К. Сказ о Беломорье. - Архангельск. 1983. - С. 32]. Однако в копийных книгах Соловецкого и Кирилло-Белозерского монастырей [прим. 12 - Никольский Н.К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти XVII в. (1397-1625). Т. 1. Вып. 2. СПб. 1910, С. 100-243; Акты Холмогорской и Устюжской епархий. РИБ. Т, 14, 1894. С. 250-302; ЛОИИ, колл. 115, № 31, 41, Акты социально-экономической истории севера России конца XV-XVII в. Акты Соловецкого монастыря 1479-1571 гг. - Л: Наука, 1988; Акты социально-экономической истории севера России конца XV-XVII в. Акты Соловецкого монастыря 1572-1584 гг. Л: Наука, 1990; Описание документов XIV-XVII вв. в копийных книгах Кирилло-Белозерского монастыря, хранящихся в отделе рукописей Российской национальной библиотеки. СПб., 1994] сохранилось много частных актов, касающихся селений ОБ, относящихся к первой половине XVI в. - наиболее ранние датированные купчие 1515 г. - Пушлахта, 1528 г. - Лямца, 1542 г. - Пурнема. Нижмозеро упоминается в сохранившихся отрывках лоции новгородца Марка Ивановича, относящейся, по палеографическим данным, к началу XVI в. [прим. 13 - Елизаровский И.А. Язык беломорских актов XVI-XVII вв. Грамматика. - Архангельск. 1958. - С. 8]. Уже в середине XVI в. села ОБ - это большие многодворные поселения. Описывавшие в 1556 г. Турчасовский уезд Яков Сабуров и Иван Кутузов насчитывали в волостках Тамице, Кянде, Нижмозере, Пурнеме 140 дворов. Кроме того, не менее 9 дворов было в Пушлахте, описание которой сохранилось неполностью [прим. 14 - Сотная на Турчасовский стан Каргопольского уезда с книг письма Я.И. Сабурова и И.А Кутузова. 1556 г. // Социально-правовое положение северного крестьянства (досоветский период). Ред. П.А.Колесников и др. - Вологда, 1981. - С. 95-135]. Отсюда видно, что к середине XVI в. уже завершился этап формирования всех основных гнезд современных селений ОБ. Анализ упоминаемых в актах XVI в. микротопонимов показывают, что уже в XVI в. в хозяйственный обиход поморов ОБ были вовлечены угодья, расположенные на расстоянии 20-30 км от центров волосток. Это косвенно свидетельствует, что упоминаемые в актах и переписях сер. XVI в. владельцы участков «куда ходил плуг, и коса, и соха, и серп, и топор, и с новыми причистями, и со старыми роспашами» - далеко не первое поколение земледельческого населения ОБ - поморские села ОБ (кроме Покровского) возникли никак не позднее второй половины XV века.
Местные легенды о происхождении сел примечательно разнообразны и относятся, насколько можно судить, к событиям середины XV-XVI вв. - времени социального и экономического расцвета региона. Так в Лямце Лямцу считают «уголком Москвы» [прим. 15 - Наши данные], что, впрочем, может быть связано не с происхождением первопоселенцев, а с противостоянием Новгорода и Москвы - граница между Двинскими (московскими) и Новгородскими землями, так наз. «Онежский рубеж» и, соответственно, «Двинской рубеж», проходила у Банева наволока около Яреньги на Летнем берегу Онежского п-ва [прим. 16 - РИБ 14, 1894, С. 315; Акты Соловецкого монастыря 1479-1571 гг., с. 157]. То, что пушлаходы считают себя по происхождению … шведами [прим. 17 - Бернштам Т.А. Поморы, с. 58] - возможный отголосок таинственных исторических обстоятельств, оставивших свой след на архаичной карте Московии Дженкинсона 1562 г., восходящей к старому московскому чертежу 1497 г. и какому-то утраченному новгородскому чертежу. На карте Дженкинсона побережье ОБ с изображенным на месте Пурнемы и Нижмозера городком Ухна (вероятно, от названия р. Ухта, впадающей здесь в Ухотскую губу) отнесено к территории Швеции [прим. 18 - Рыбаков Б.А. Русские карты Московии XV-начала XVI века. - М: Наука. 1974. - С. 21-44]. Пурнемчане XX-XXI вв. полагают себя потомками новгородцев, однако, по зафиксированному «мнению приходских священников» сер. XIX в., могут являться «поселением карелов, совсем обрусевших» [прим. 19 - Списки населенных мест Российской империи. 1. Архангельская губерния. - СПб.: 1861. - С. 118]. Наконец, нижмозёр соседи «бранят» кайванами (ср. историческое название «каянские немцы» приграничных к Карелии финляндских шведов) [прим. 20 - Бернштам Т.А. Поморы, c. 56, 58; наши данные]. П.С. Ефименко, цитируя рукописные заметки приходского священника Дьячкова (сер. XIX в.), пишет: «Сначала, говорит народное предание, в Нижмозере жила чудь. Старожилы и сейчас называют места, которые она занимала <…>. В последствие стали приходить из Новгорода и из Корелы поселенцы и селились тут же. Таким образом, нынешние нижмозеряне (в XX в. говорили «нижмозёра» - А.Р.) производят себя от трех племен: чуди, новгородцев и кореляков» [прим. 21 - Ефименко П.С. Заволоцкая чудь, с. 98].
Вторая половина XVI в. - период формирования русско-поморского самосознания [прим. 22 - Бернштам Т.А, Поморы, с. 69-72], совпадающий по времени с увеличением среди туземного населения Поморья (неясной этнической принадлежности) доли «сторонних людей» (новых землевладельцев, работных людей монастырских варниц, «московских переведенцев»). Среди «сторонних людей» и/или «туземцев» ОБ XVI - начала XVII в., несомненно, есть карела: в описи документов Золотицкого усолья, к которому относилась Пушлахта, из архива Соловецкого монастыря (1676 г.) значились «одиннадцать крепостей старых <…> - дачи корельских владельцев» [прим. 23 - Белокуров С.А. Библиотека и архив Соловецкого монастыря после осады (1676 года). - М. 1887. - С. 36]. Сохранение карельского или чудского языкового и, следовательно, генетического пласта слышится в патронимах владельцев дворов в Лямце Федота Окулова сына Ускалова (ум. до 1548/49) и Софрона, Андрея, Константина и Лука-Поздея, детей Федора и Василия Херпиных (1547-1589) [прим. 24 - Акты Соловецкого монастыря 1479-1571 гг., с. 91; РИБ 14, 1894, сс. 283, 286-289; 293, 295]. Артемий Сидоров сын, корелянин продавал пожни в Орлове (Пушлахта) в 1528 г. [прим. 25 - Гунн Г.П., указ. соч., с. 234]. Фетка Васильев Корела и Труфанко Корела Есипов сын зафиксированы переписчиками 1556 г., соответственно, в волостках Усть-Онеге и Лямце [прим. 26 - Сотная на Турчасовский стан Каргопольского уезда 1556 г. - С. 95-135], Ивашко, Гришка, Федька, Афонька да Максимко кореляне «сошли от хлебные скудости» из Нижмозерской волости после литовского разорения в Смутное время [прим. 27 - Савич А.А Соловецкая вотчина XV-XVII вв. - Пермь, 1927. - С. 194].
Анализ частных актов, касающихся купли и продаж земель в XVI в., позволяет выявить среди землевладельцев ОБ довольно много недавних мигрантов - выходцев из Новгорода, Каргополя, поморов Поморского берега и пинежан. Так, среди полусотни лиц, владевших землями и солеварнями в Лямце в XVI в., упоминаются три новгородца (Михей (уп. до 1550 г.), Семен Исаков сын (уп. 1550-59), Иван Кушник Михалев сын (уп. 1558-1561), два каргопольца (Гаврила Семенов сын Мохнаткина (уп. 1563-66) и Павел Зиновьев сын (уп. 1568), а также выходцы с Поморского берега Семен Кондратьев сын, Ворзогор (ворзогорец) (уп. 1550) и Василий Клементьев сын, нюхчанин (уп. 1566-68). В Пушлахте владеют землями каргополец Иван Иванов с. Мохнаткин (до 1531), Василий и Григорий Агафоновы дети из Толвуя (уп. 1540/1541), пинежанин Петр Григорьев (уп. 1540-1556), Потап Семенов с братьями из Мехреньги (уп. 1571) [прим. 28 - Акты Соловецкого монастыря 1479-1571 гг., Указатели; Акты Соловецкого монастыря 1572-1584 гг., Указатели; РИБ, Т. 14, С.; Никольский, указ. соч., сc. XLIX; LV], Юшко Васильев «с Онеги» (уп. 1556) [прим. 29 - Никольский, указ. соч., с. LIII]. Особо следует упомянуть Емельяна Кондратьева c братьями, детей Кончаковых из Клещева Поля (среднее течение р. Онеги) (уп. 1532-1582) [прим. 30 - Акты Соловецкого монастыря 1479-1571 гг., сс. 43, 47, 50, 90, 110, 140; Акты Соловецкого монастыря 1572-1584 гг., cc. 16, 114, 131, 174, 180], промышлявших семужной ловлей у Кончакова наволока [прим. 31 - Акты Соловецкого монастыря 1479-1571 гг., с. 157], до сих пор сохранившего их родовое имя. Записанные современными фольклористами на Онежском и Летнем берегах достойные исландских саг драматические сюжеты об умыкании легендарным Кончаком поморских и поповских жен [прим. 32 - Криничная Н.А., указ. соч., с. 136-139, 246-247] позволяют предполагать, что гены клещепольцев XVI в. еще могут сохраняться в популяции современных поморов. Данных об «импорте» невест в поморские села ОБ, вероятно существовавшем и в XVI в., в известных нам документах не зафиксировано. Прочтение «…внуке моей Окулины на Пу[р]немее» в духовной грамоте (1577 г.) турчасовского делового человека Авдотьи Ивановой дочери Голубы [прим. 33 - Акты Соловецкого монастыря 1572-1584 гг., с. 102] кажется нам сомнительным.
Брачные традиции поморов ОБ в более поздний период (XVIII-XX вв.) были исследованы нами с привлечением данных метрических книг Пурнемы и Лямцы, ревизских сказок, материалов духовных росписей (исповедальных ведомостей), переписных листов Первой всесословной переписи населения 1897 г. [прим. 34 - ГАО, ф. 29, оп. 22; ф. 6, оп. 18; ф. 51, оп. 11,12; ф.29, оп. 29], домовых книг Пурнемского сельсовета и администрации, списков колхозников колхоза «Беломор» (затем «40 лет Октября»), материалов газет «Красная Онега», «Онежский ударник», «Беломорский рыбак», «Советская Онега» за 1920-1956 гг.) и собственных полевых материалов. Таблицы 1 и 2 показывают, что приводимая Т.А. Бернштам поморская поговорка «Хоть за батожок, да на свой бережок!» [прим. 35 - Бернштам Т.А. Русская народная культура Поморья в XIX-начале XX в., с. 120] вполне может рассматриваться в качестве императива в брачных отношениях поморов ОБ в доколхозный период. При этом брачная миграция в конце XVIII-первой пол. XIX в. касается только женской части населения - все отмеченные в табл. 1 браки пурнемских невест и «сторонних» женихов сопровождались «экспортом» невест. За исследованный нами период с 1780 по 1980 г. в Пурнеме закрепились и жили на протяжении не менее трех поколений лишь Каменские и Агафоновы (и те и другие - выходцы из Пушлахты 1930-х годов), Резины (из Нижмозера, 1950-е годы), Аникины и Рыбины (из приехавших в эвакуацию во время Отечественной войны). В Лямце - одна новая фамилия (сотрудники метеостанции), в Нижмозере ни одной. В то же время, среди оставивших потомство в Пурнеме женщин (здесь, в отличие от данных табл. 2, учитываем только постоянно проживавших в Пурнеме) - 38 из Лямцы, 15 из Нижмозера, 12 из Кянды, 9 из Пушлахты, 3 из Тамицы (всего из сел ОБ - 77), 3 - из Уны (Летний берег Белого моря), 2 - с р. Онеги, одна ненка, одна «чухонка» (?), одна карелка из Кемского уезда. Происхождение еще 6 «сторонних» невест выяснить не удалось. Приведенные данные еще раз показывают, что генетическая конституция локальных популяций по «мужской» и «женской» линиям может принципиально различаться.
Выбор брачного партнера в пределах села неслучаен. Брачное право русской православной церкви безусловно запрещало браки в кровном родстве по прямой линии вообще, а по боковым - до 1810 г. в пятой и, в ряде случаев, в шестой и седьмой степени родства. После 19 января 1810 г. запрещались браки до четвертой степени родства включительно, а на браки пятой степени родства (напр., двоюродный дядя и двоюродная племянница) необходимо было получить разрешение архиерея [прим. 36 - Сахаров И.В. Генеалогические аспекты брачного права русской православной церкви // Генеалогические исследования. Ред. В.А.Муравьев и др. - М. 1994. - С. 59-68; Ефименко П.С. Сборник народных юридических обычаев Архангельской губернии // Тр. Архангельского губ. Стат. Комитета за 1867 и 1868 г. Вып. 3. - С. 26-27]. Имеющиеся у нас материалы показывают, что правила эти при осуществлении актов бракосочетания в XVIII-XX вв. в изучаемом районе соблюдались. До XIX в. степени духовного родства (отношения, возникающие между восприемником и крестниками после обряда крещения) приравнивались к кровно-родственным отношениям и соответствующим образом оценивались при определении возможности брака. Различие, однако, состояло в том, что кровное родство не препятствовало родству духовному. В Пурнеме XVIII-XIX в. крестными отцами и божатками (крестными матерями) часто были родные тетушки, дяди и деинки (жены дядей). В XIX в. по указанию Синода родство духовное перестало рассматриваться как препятствие к браку, однако, как отмечает Ефименко, в обычном праве подобные браки осуждались, особенно раскольниками [прим. 37 - Ефименко П.С. Указ. соч., с. 27].
Ограничения на близкородственные браки в сочетании со стремлением заключать браки в пределах своего села, в крайнем случае, в пределах своего берега [прим. 38 - Бернштам Т.А. Русская народная культура Поморья в XIX-начале XX в., с. 118-120] приводило к тому, что в таких полузамкнутых долговременных популяциях велика была доля браков 7-10 и более высоких степеней родства, причем в каждом браке прослеживается родство сразу по нескольким генеалогическим линиям. Типичная картина множественного родства приведена на родословной схеме рис. 1, отражающей родственные связи Николая Авдиесовича Крюкова и Екатерины Ивановны ур. Евстафьевой. Брак заключен около 1960 г.
П.С. Ефименко сообщает, что, несмотря на то, что узаконенным возрастом вступления в брак являлось 18 лет для жениха и 16 лет для невесты, в Лямце на ОБ «старались выдать замуж невесту в пожилых летах, иногда в 25 лет, < …> говорят «Эка, парень, корми да воспитывай дочь свою, да <…> поскорее и выдавай в работницы чужому человеку, а родителям то своим она когда заработает за воспитание? Нет, так нам не надо»». Тот же автор сообщает, что по уверению местных священников, браки, когда невесте больше лет, чем жениху были запрещены, однако, по его наблюдениям, по крайней мере для Холмогор, это утверждение не соответствует действительности [прим. 39 - Ефименко П.С, указ. соч., с 27-28]. Наши наблюдения по бракам в Пурнеме и Лямце согласуются с представлениями П.С. Ефименко. В табл. 3. приведены данные о возрасте невест и женихов к моменту заключения первых браков в Пурнеме в 1780-1862 гг. Таблица 3 показывает, что модальным возрастом при вступлении в брак были 20-24 года для невест и 24-26 лет для женихов. Однако разница в возрасте между женихом и невестой могла достигать 10-12 лет, причем в обе стороны. Самый ранний из зарегистрированных в 1780-1862 гг. браков: жениху 16 лет, невесте 14.
Число детей, рожденных в браке за этот период варьировало от 1 до 11 в разных семьях, причем число семей с 1-2-3-4-5-6-7 детьми примерно равны. Мальчиков рождалось больше, чем девочек (54% против 46%). В возрасте до года умирало 22% девочек и 30% мальчиков, причем сведения метрических книг в этом пункте не полны - отмечено, что в конце XVIII-начале XIX в. умершие младенцы часто не попадали ни в раздел «родившиеся», ни в раздел «умершие». Высокая детская смертность вела к тому, что до 15-летнего возраста в семье доживало, обычно, от 2 до 5 детей.
К настоящему моменту нами построены родословные схемы всех семей с. Пурнема ОБ, охватывающие период с первой половины XVIII в. до конца XX в.
К настоящему времени, составленные нами генеалогические таблицы включают данные об брачных связях около 4,5 тыс. поморов Пурнемы и лиц, вступивших с ними в брачные отношения на протяжении последних 300 лет. Они позволяют с высокой степенью достоверности идентифицировать лиц, предки которых по мужской и женским линиям жили в Пурнеме, ОБ Белого моря по крайней мере 250-300 лет назад, а также определить кто из современных поморов Пурнемы несет гены населения иных мест Беломорья. Использование этих таблиц в молекулярно-генетических исследованиях, на наш взгляд, может решить многие проблемы этногенеза поморов, в частности, поморов ОБ. В настоящее время автор продолжает работу над генеалогией поморов ОБ, в частности, над генеалогией Нижмозера и Лямцы» [87; 88].
Дополнить приведенную выше характеристику Лямицкой групповой системы населенных мест позволяют сведения из архива краеведческого музея города Онеги, подготовленные краеведом С. Головченко, с приложение фотографии общего вида села, выполненной Е. Савиной (Онега) в 2004 году [82, фото]. «Лямца. Местоположение. Старинное поморское село, в древности называлось Усть - Лямицкое. Расположено на западном побережье Онежского п-ва (т.н. Лямицкий (Онежский) Берег Белого моря), при устье одноименной реки. Расстояние от г. Онеги е ок. 90 км (морем, вдоль берега), от с. Пурнемы е ок. 25 км (дорога по берегу; см. карту в разделе «Лямицкий приход»). Деревни. Колония. Верховье. Заручей.
Приходские храмы, достопримечательности. Издревле здесь находились: теплый храм в честь Соловецких Чудотворцев Зосимы и Савватия, шатровая колокольня и часовня Пророка Божия Ильи. В 1691 г., вместо сгоревшей теплой церкви, была перестроена из часовни и освящена холодная Ильинская церковь с пристроенной теплой трапезной (из церковной описи 1834 г.). На 1895 г. в приходе описывается (см. раздел «Лямицкий приход») теплая Ильинская церковь, освященная 14 февраля (стар. стиль) 1852 г. с приделом Преп. Зосимы и Савватия Соловецких.
Здание церкви незначительно пострадало летом 1855 г., когда село подверглось обстрелу с военных кораблей англичан, безуспешно пытавшихся высадить десант на берег с целью грабежа. Захватчики получили от жителей решительный отпор, так что им ничего не оставалось, кроме как в слепой ярости палить из пушек. Было истрачено до 500 ядер, которые почти не причинили селу никакого вреда. Причины тому: мелководье, не позволившее кораблям неприятеля подплыть ближе, и выгодное местоположение Лямцы (в котловине, за высокими морскими берегами - «горами», Ильинской и Мызок). Ядра то врезались в эти «горы», то перелетали через жилые постройки...
Память о том бое - чугунный крест, по сей день украшающий деревню, а вот церкви давно уже нет. Храм разрушен по инициативе комсомольцев в середине 30-х г.г. XX в. Колокольня была разобрана еще раньше (около 1930-го г.).
Население. На 1866 г. - 335 человек крестьян обоего пола при 59 дворах. На 1896 г. - 587 жителей при 100 дворах. На 1920 г. - 687 жителей при 142 дворах. На 1998 г. - 126 постоянных жителей при 57 наличных постоянных хозяйствах. На 2000 г. - 130 жителей при 56 хозяйствах. На 2008 г. - 109 жителей при 49 постоянных хозяйствах. Основные занятия жителей. Морские: рыбный и зверобойный промыслы, отходничество, отчасти хлебопашество, животноводство, солеварение. Существовала государственная лоцманская служба по проводке отечественных и иностранных судов в Онегу, Кемь, Сороку (Беломорск), которой занималось до 20 семейных династий из Лямцы.
Административная принадлежность. Исстари Лямца - вотчина Соловецкого монастыря. В письменных источниках (Акты Холмогорской и Устюжской епархий) впервые упоминается в 1528 г. С 1785 г. по 1831 г. - центр одноименной волости и сельского общества Онежского уезда. С 1831 г. по 1917 г. - в составе Пурнемской волости. С 1917 г. по 1924 г. - опять волостной центр. С 1929 г. по 1940 г. - центр сельского совета Онежского района. С 1940 г. по 1958 г. - входила в Беломорский район. С 1958 г. - в составе Пурнемского с/с Онежского района. На 2008 г. - в составе МО «Покровское».
Хозяйственный статус. В 1929 г. создано товарищество по добыче рыбы (с.с. Лямца и Нижмозеро, в 1930-м г. вошло с. Пурнема), с 1930 г. по 1936 г. продолжалась организация колхоза «Новая жизнь» (в 1930 г. объединились 143 хоз.). В 1957 г., на паях с двумя другими колхозами: «40 лет Октября» (Пурнема) и «Красный Север» (Нижмозеро) было куплено и содержалось рыболовецкое судно «Золотица». С 1960 г. эти три хозяйства стали объединяться в одно - колхоз «40 лет Октября», существующий по сей день» (рисунки 2.189) [82, фото].
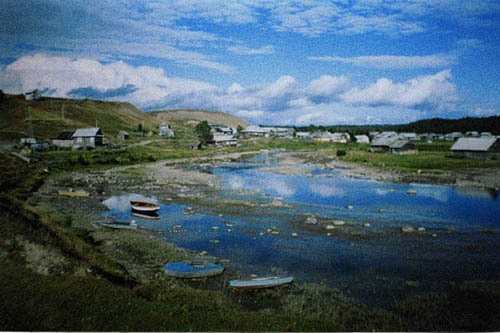
Рисунок 2.189 - Деревня Лямца - Лямецкая - с. Лямца - Лямица - Усть-Лямицкое - Лямицкое - Лямецкое - Лямцы (дд. Колония, Верховье и Заручей) Общий вид Архив музея г. Онеги (фото Е. Савиной (Онега), 2004 г.) [82, фото].
Необходимо упомянуть также о статье краеведа Я. Кошелева «В память отражения неприятеля», опубликованной в сборнике «Памятники Архангельского Севера» за 1983 год, с приложением фотографий, выполненных А. Венедиктовым (Онега) в 1970-е годы и Е. Савиной (Онега) в 2004 году [82, фото]. «О том, что случилось в селе Лямца Онежского уезда летом 1855 г., повествует надпись на памятнике, который и ныне стоит в этом онежском селе:
«Лета 7363 июня 25 дня (в тексте ошибка. События в Лямце происходили 27-28 июня 1855 г. - сост.) неприятельский английский пароход, подойдя вечером в 6 часов к селению Лямцы отправя на берег гребные суда с вооруженными людьми. Крестьяне Лямца руководимые рядовым Изырбаевым открыли по приближавшимся огонь из ружей и небольшой пушки и тем принудили их возвратиться к пароходу. Вслед за тем с парохода начали стрелять ядрами, картечью, гранатами и ракетами. После трехчасовой стрельбы снова отправили гребные суда с десантом но и сей высадки крестьяне селения Лямца не допустили и принудили возвратиться на пароход, который, продолжая стрельбу во всю ночь, в 6 часов утра ушел в море. При сих сражениях кроме крестьян приняли участие Архангельский мещанин Александр Лысков и местный священник Петр Лысков, и дьячок Изюмов, из крестьян же наиболее отличился Совершаев. Несмотря на продолжительное бомбардирование, из защищавших Лямцу ранен только дьячок Изюмов и самое селение пострадало весьма мало. Бомбы, гранаты и ракеты большею частью не разрывались и их собрано большое количество. Государь император пожаловал Совершаеву и Изюмову серебряные медали на георгиевской ленте с надписью за храбрость» (Транскрипция надписи сохранена - сост.).
Это был не первый приход англичан в Лямцу. Еще в 1854 г. англо-французская военно-морская эскадра в составе десяти кораблей блокировала Белое море и своими разбойничьими набегами наносила огромный материальный ущерб краю. Достаточной помощи от царского правительства поморы не получали и, предоставленные сами себе, первое время не отваживались дать отпор неприятелю. 8 июля 1854 г. при виде двух пароходов, подошедших к Лямце, жители селения скрылись в лесу. Англичане, беспрепятственно высадив десант, застрелили и взяли с собой двух быков, семь баранов и одиннадцать кур. Офицер, командовавший десантом, «расплатился» за все это, презрительно швырнув на берег три монеты.
К следующему приходу вражеских кораблей крестьяне Лямцы заранее «разумно приготовились». Они заняли оба берега реки, при которой лежало селение, «получив, таким образом, выгодный стратегический пункт», даже заблаговременно провели «примерные учения». Так что 27 июня 1855 г. селение защищал малочисленный (всего 38 человек), плохо вооруженный (одна старенькая пушка трехфутового калибра), но организованный отряд. На высоте оказался рядовой Нур-Мухамед Изырбаев, командовавший отрядом. О нем известно, что он из крестьян Оренбургской губернии, что на службе не раз был бит шпицрутенами (телесное наказание - прим. ред.), что за лямицкий свой подвиг награжден знаком отличия - военным орденом 4-й степени, установленным для мусульман.
Мысль о сооружении памятника возникла сразу же после боя. Уже 3 июля управляющий Архангельской палатой государственных имуществ доносил губернатору, что крестьяне Лямцы, «желая ознаменовать славный для себя день памятником, просят исходатайствовать... разрешения о сооружении из найденных на берегу ядер, бомб, гранат и ракет пирамиды». Губернские власти были не против, но одна пирамида из бомб и ядер их не удовлетворила, и в Архангельске родился следующий проект: «Для памятника в селении Лямцы предполагается поставить пьедестал с надписью, выражающею цель сооружения. На пьедестале сгруппировать бомбы и ядра, которые будут служить подножием кресту - символу избавления. В кресте, на передней его стороне, предполагается распятие, а на другой подробное описание события, в память которого водружен крест. Пьедестал предполагается сделать из камня, а если можно, из гранита. Крест и под ним надпись отлить из чугуна и поставить на граните, с укреплением всех бомб и ядер болтами и пиронами. Ограду сделать деревянную».
Александровский чугунолитейный завод в Петрозаводске за счет казны в марте 1858 г. отлил чугунный крест и пьедестал. Памятник весом в 208 пудов доставили в Архангельск, а в 1860 г. - в Лямцу. Он долго находился в церковном коридоре, и только в 1863 г. был отряжен из губернского центра инженер Барт, который и поставил памятник на Ильинской горе, пирамидой укрепив у подножия креста 33 ядра. Памятник был торжественно открыт 27 июня 1867 г.
Воздвигая памятник, крестьяне Лямцы обязались всегда содержать его в исправности. «Ручаемся за свое потомство, - писали они, - что и оно будет в память нашу поддерживать его в отдаленное время». Памятник поморской славы стоит поныне на морском берегу» (рисунки 2.190) [32; 82].

Рисунок 2.190 - Деревня Лямца - Лямецкая - с. Лямца - Лямица- Усть - Лямицкое - Лямицкое - Лямецкое - Лямцы (дд. Колония, Верховье, Заручей). Лямицкий крест (фото А. Венедиктова (Онега), 1970-е гг.) [82, фото].
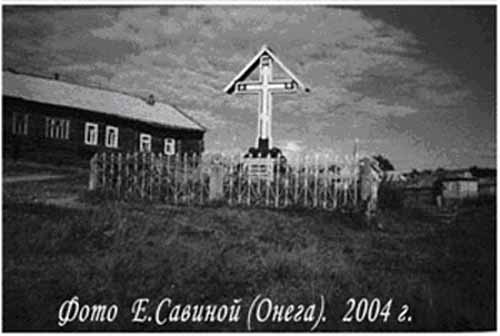
Рисунок 2.191 - Деревня Лямца - Лямецкая - с. Лямца – Лямица - Усть - Лямицкое - Лямицкое - Лямецкое - Лямцы (дд. Колония, Верховье, Заручей). Лямицкий крест (фото Е. Савиной (Онега), 2004 г.) [82, фото].
Необходимо также упомянуть о сведениях, представленных на портале «Onegaonline.ru» в виде набора фотографий общего вида деревни Лямца и ее отдельных построек и сооружений [82, фото]. Сведения о деревне Лямца содержатся также на портале ««Фото Планета. Фотографии городов, поселков, сел и деревень» («Foto-planeta.com») (адрес - http://foto-planeta.com/np/5074/lyamtsa.html) [76]. «Лямца. Широта: 64°27'00'' Северной Широты. Долгота: 37°04'00'' Восточной Долготы. Высота над уровнем моря: 8 м. Поблизости: Летняя Золотица, Тамица, Уна, Нижмозеро, Вернеозерский, Пурнема, Пушлахта, Луда, Кянда, Унежма» [76]. К приведенному описанию также представлена серия фотографий общего вида деревни (рисунки 2.192-2.198) [76, фото].

Рисунок 2.192 - Lyamtsa (фото «Otmorozen», время съемки неизвестно) [76, фото].

Рисунок 2.193 - Lyamtsa Country Club (фото «Otmorozen», время съемки неизвестно) [76, фото].

Рисунок 2.194 - Coast. Fisherman nets (фото «Otmorozen», время съемки неизвестно) [76, фото].
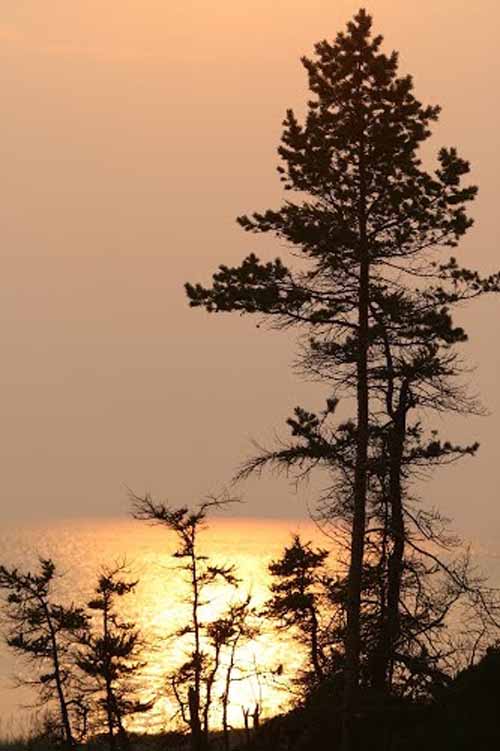
Рисунок 2.195 - Lyamtsa (фото «Otmorozen», время съемки неизвестно) [76, фото].

Рисунок 2.196 - White Sea, old willadge Lyamtsa. English Cannonballs (фото «Grigory Shmerling», время съемки неизвестно) [76, фото].

Рисунок 2.197 - Lyamtsa, 1992 (фото «Grigory Shmerling», 1992 г.) [76, фото].

Рисунок 2.198 - Lyamtsa, village 1992 (фото «Grigory Shmerling», 1992 г.) [76, фото].
Интерес также представляет информация, содержащаяся на портале «Karaed.ru» в виде отчета об экспедиции клуба «OFF-ROAD29» из города Северодвинска в июле 2009 года [78]. «Лямца такая же большая, как Пурнема. Есть аэродром, магазины, сельский клуб, дизель-генераторная, спутниковая связь, работает телевизор (берет на тарелочку). Трактора, много лошадей, довольно назойливая местная пьянь, куча мелких ребятишек. Большая часть жителей - приезжие на лето, но многие живут постоянно.
Деревня расположена в устье одноименной реки. Закрыта от моря высокими живописными холмами, что служили ранее естественной защитой от нападения врагов с моря. Так в годы Крымской войны 25 июня 1855 (ст.ст.) в устье р.Лямца была совершена попытка высадки английского десанта, отраженная крестьянами.
Для уничтожения береговых и тыловых укреплений английский фрегат день и ночь обстреливал деревню, но защищавшие ее холмы не позволяли вести прицельный огонь, поэтому деревня не пострадала. Несколько попыток высадки десанта были успешно отбиты. В честь этого события в центре деревни установлен большой памятный крест, отлитый в Петрозаводске по указу Царя.
Крест обнесен оградой. У подножия - те самые английские ядра. Надпись на табличке под крестом в современной орфографии: В память отражения неприятельского английского парохода-фрегата государственными крестьянами селения Лямцы в 25 день июня 1855. Надпись на оборотной стороне креста: Лета 1855 июня 25 дня неприятельский английский пароход, подойдя вечером в шесть часов к селению Лямцы, отправил на берег гребные суда с вооруженными людьми. Крестьяне Лямца, руководимые рядовым Изырбаевым, открыли по приближающимся огонь из ружей и небольшой пушки, и тем принудили их возвратиться к пароходу. Вслед за тем с парохода начали стрелять ядрами, картечью, гранатами и ракетами и отправили гребные суда с десантом, но и сей высадки крестьяне селения Лямца не допустили и принудили возвратиться на пароход, который продолжал стрельбу во всю ночь, в шесть часов утра ушел в море. При сих отражениях кроме крестьян принимали участие: архангельский мещанин Александр Лысков, местный священник Петр Лысков и дьячок Изюмов, из крестьян же наиболее отличился Совершаев. Несмотря на продолжительное бомбардирование, из защищавших ранены только дьячок Изюмов и самое селение пострадало весьма мало. Бомбы, гранаты и ракеты большей частью не разрывались и их собрано крестьянами большое количество. Государь император пожаловал Совершаеву и Изюмову серебряные медали на георгиевской ленте с надписью «за храбрость».
К сожалению эрозия почвы не щадит знаменитые холмы - они постепенно разрушаются. Крест так же не в лучшем состояние - когда-то давно он упал, его часть откололась, после чего приварена вновь - видны следы сварки. Надписи сильно замазаны многими слоями краски - разобрать буквы почти невозможно. О деревне Лямца сделана виртуальная интернет-экскурсия (адрес – http://e-project.redu.ru/virtual/lyamtsa/russian/index.htm). Весьма познавательно» [78].
На этом же портале содержится интересная фотогалерея об экспедиции «Белое море», совершенной в августе 2008 года (адрес - http://www.karaed.ru/Expedition_WhiteSea/) (рисунки 2.199-2.212) [78, фото].

Рисунок 2.199 - д. Лямца, август 2008 г. [78, фото].

Рисунок 2.200 - д. Лямца, август 2008 г. [78, фото].

Рисунок 2.201 - д. Лямца, август 2008 г. [78, фото].

Рисунок 2.202 - д. Лямца, август 2008 г. [78, фото].

Рисунок 2.203 - д. Лямца, август 2008 г. [78, фото].

Рисунок 2.204 - д. Лямца, август 2008 г. [78, фото].

Рисунок 2.205 - д. Лямца, август 2008 г. [78, фото].

Рисунок 2.206 - д. Лямца, август 2008 г. [78, фото].

Рисунок 2.207 - д. Лямца, август 2008 г. [78, фото].

Рисунок 2.208 - д. Лямца, август 2008 г. [78, фото].

Рисунок 2.209 - д. Лямца, август 2008 г. [78, фото].

Рисунок 2.210 - д. Лямца, август 2008 г. [78, фото].

Рисунок 2.211 - д. Лямца, август 2008 г. [78, фото].

Рисунок 2.212 - д. Лямца, август 2008 г. [78, фото].
Упоминание о деревне Лямца имеется также в работе историка-языковеда И.А. Елизаровского «Язык беломорских актов XVI-XVII вв.» (1958 г.), представленной на портале «BVSV.livejournal.com» 27 января 2012 года в разделе «Вопросы к истории», «Население Северного Поморья в древности» [83].
«В XIII-XV вв. новгородская колонизация Северного поморья усиленно продолжалась. История сооружения христианских храмов убедительно показывает, что в это время только на участке Северной Двины, от устья Емцы до впадения Двины в море, примерно, на расстоянии 180 километров, накопилось настолько значительное крестьянское население, что оно могло построить в 20 поселках храмы и содержать церковный клир. В частности, «Двинские грамоты XV в.» упоминают церкви в Усть-Емце, Ступине, Ровдине, Матигорах, Курострове, Холмогорах, Залывье, Чухченеме, Ухтострове, Прилуках, Лявле, Курье, Княжестрове, Лисестрове, Заостровье, Вознесенье, Кехте, Лодме, Бревеннике, Пурнаволоке (1). Тогда же возникли храмы и, следовательно, значительные селения и на берегах Белого моря: в Солзе, Неноксе, Уне, Пурнеме, Яреньге, Лямце, Поньгаме, Колежме, Шуе, Сороке, Суме, Ковде» [83].
Сведения о Лямицком приходе содержатся также на портале «Православные приходы и монастыри Севера» (адрес - http://parishes.mrezha.ru/library.php?id=12) [70]. «Лямицкий приход. Онежский район, Архангельская область. Онежский уезд, Архангельская губерния. Современное местоположение: Покровское с/п (?), Онежский р., Архангельская обл. Историческое местоположение: Онежский уезд, Архангельская губерния.
Приход состоял из с. Лямицкого (при устье р. Лямцы) и «переселка» Среднинского. Церковь была освящена 14 февраля 1852 г., в ней было два престола: главный - во имя прор. Илии и придельный - во имя препп. Зосимы и Савватия Соловецких. Церковный староста: Василий Лукачев с 1887 г. Часовня: в Среднинском переселке, во имя мучч. Кирика и Иулиты. Библиография: Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Вып. 3 - Архангельск, 1896. - С. 37-38 [36, с. 37-38]. Дата последнего обновления: 30.08.2012» [70].
Необходимо также упомянуть и о сведениях, представленных в электронном периодическом издании «Храмы России» (Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-35747 от 31 марта 2009 г.) с наименованием сайта «Народный каталог православной архитектуры. Описания и фотографии православных церквей, храмов и монастырей» [68].
«Церковь Илии Пророка в Лямце. Учетная карточка. Название - Церковь Илии Пророка в Лямце. Обиходные названия - Ильинская церковь; Ильи Пророка церковь; Пророко-Ильинская церковь. Тип постройки - церковь. Дата основания - не позже XVII в. Дата постройки последнего здания - 1852. Историческое исповедание - Православная. Статус - не сохр. Адрес на 1917 г. - Архангельская губ., Онежский у., с. Лямицкое. Современный адрес - Архангельская обл., Онежский р-н, д. Лямца. Краткое описание. Деревянная церковь с колокольней, освященная в 1852. Второй престол Зосимы и Савватия. Разобрана в сер. 1930-х. Примечания. В селе сохранился крест, поставленный в память сражения местных жителей с английскими моряками в 1855. У подножия креста выложена пирамида из чугунных ядер, которыми английский флот обстреливал село. Дата обновления карточки - 17 февраля 2013 года. Составитель - Бокарёв Александр» [68].
В перспективе Лямицкая групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.1.9 Макарьино-Семеновская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
Макарьино-Семеновская групповая система населенных мест находится в южной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 58 км к югу от районного центра - города Онеги и на расстоянии 3 км к юго-западу от деревни Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская - административного центра Устькожской сельской администрации.
Макарьино-Семеновская ГСНМ расположена на левом (северном) и на правом (южном) берегах в излучине реки Кожи, вытекающей из озера Кожозера и впадающей в малый рукав реки Онеги около деревни Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская, и состоит из деревни Макарьино - Макарьинское - Макарьинская - Макарьенская - с. Макарьинское - с. Макарьино - Макарьинский погост - погост на р. Коже (1) и находящейся напротив нее за рекой Кожей деревни Семеновская - Глотово (2) (рисунки 2.1, 2.4, 2.83, 2.124, 2.143, 2.151, 2.213-2.216) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 22; 57, карты; 82, карты; 107, с. 13, рис. 1].
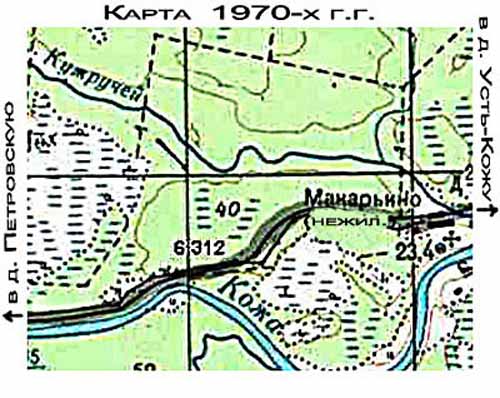
Рисунок 2.213 - Деревня Макарьино - Макарьинское - Макарьинская - Макарьенская - с. Макарьинское - с. Макарьино - Макарьинский погост - погост на р. Коже Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1970-х гг.) [82, карта].
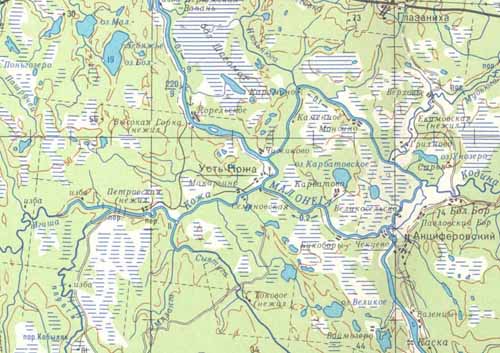
Рисунок 2.214 - Деревня Макарьино - Макарьинское - Макарьинская - Макарьенская - с. Макарьинское - с. Макарьино - Макарьинский погост - погост на р. Коже Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1991 г.) [57, карта].
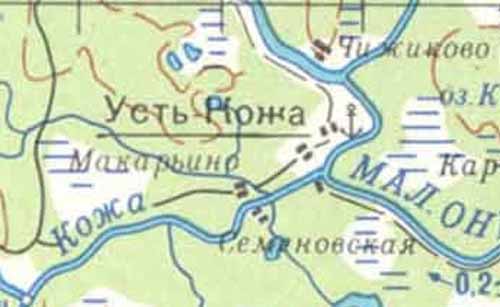
Рисунок 2.215 - Деревня Макарьино - Макарьинское - Макарьинская - Макарьенская - с. Макарьинское - с. Макарьино - Макарьинский погост - погост на р. Коже Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1991 г.) [57, карта].
На период полевых работ Историко-архитектурной экспедиции Петрозаводского государственного университета 1987 года в деревне Макарьино - Макарьинское - Макарьинская - Макарьенская - с. Макарьинское - с. Макарьино - Макарьинский погост - погост на р. Коже насчитывалось 7 жилых домов, а два дома к этому времени были уже утрачены. В свою очередь в деревне Семеновская - Глотово насчитывалось 17 жилых домов, а два дома к этому времени были уже утрачены. Архитектурно-типологическое описание планировки и застройки Макарьино-Семеновской ГСНМ, содержащееся в формуле «К1/1(1)(01.2), ПК1/1, Т1/1, ПТ1, В2/1(2), ПВ3/2(1)(01.1), Р1», приведено в приложении А и в таблице Б.1.
Необхожимо отметить, что к фрагменту топографической карты окрестностей деревни Макарьино - Макарьинское - Макарьинская - Макарьенская - с. Макарьинское - с. Макарьино - Макарьинский погост - погост на р. Коже 1970-х годов, опубликованной на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Макарьино», приложена фотография, выполненная неизвестным автором в конце XIX века (рисунок 2.217), с пояснением, подготовленным краеведом С. Головченко [82, фото].
«Перед нами фото конца 19 века (после 1886 г.), на котором изображен храмовый «тройник» - центр бывшего Кожского прихода: шатровая церковь Святого Климента, папы Римского (1695 г.), колокольня (1695 г.) и пятиглавая кубоватая Крестовоздвиженская церковь (1769 г.). Храмовый комплекс располагался (в 1985 г. он полностью сгорел) на высоком (ок. 10 метров) левом берегу р. Кожи у села Макарьино, в трех километрах от деревни Усть-Кожа (Чирковская). С. Макарьино - небольшое поселение в 18 дворов (на 1920 г.), расположившееся в месте слияния Кужручья и р. Кожи, на левом ее берегу. Кроме двух этих поселений в приход входили еще шесть деревень: Семеновская (Глотово), Филимоновская (Кислуха), Ефимовская (Остров), Сидоровская, Петровская (Верхний Двор) - на р. Коже; Чижиково - на р. Онеге.
В 1920 году на территории бывшего Кожского прихода насчитывалось 1073 жителя, дворов - 248. Эти деревни в свое время относились к Кожеозерскому Богоявленскому монастырю. Люди занимались земледелием, скотоводством, рыболовством, заготовкой и сплавом леса. В Чижиково шили лучшие в районе лодки. У места, где до лета 1985 г. стоял «тройник», возвышается двухметровый чугунный крест - памятник неизвестного происхождения. Может быть, он со старого кладбища, бывшего когда–то у церквей.
К настоящему времени деревни Филимоновская, Ефимовская и Сидоровская уже не существуют (даже следов не осталось, кроме фрагмента дома в Филимоновской). В Петровской, Глотово и Макарьино (в которой осталось только несколько домов) нет постоянных жителей. Остаются круглогодично населенными только Усть-Кожа (больше 100 человек), и Чижиково (в которой на 2008 г. проживает 10 человек). Летом в эти края можно попасть на т\х «Заря» от пристани Порог или на попутной лодке, зимой - по зимнику, с которым каждый год возникает много проблем: намораживание переправы через р. Онегу, поддержание в рабочем состоянии 40 км зимника… Так и живем» [82].
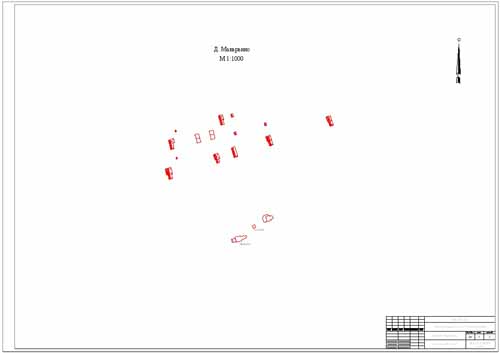
Рисунок 2.216 - Деревня Макарьино - Макарьинское - Макарьинская - Макарьенская - с. Макарьинское - с. Макарьино - Макарьинский погост - погост на р. Коже, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.

Рисунок 2.217 - Храмовый «тройник» - центр бывшего Кожского прихода: шатровая церковь Святого Климента, папы Римского (1695 г.), колокольня (1695 г.) и пятиглавая кубоватая Крестовоздвиженская церковь (1769 г.). Фото конца 19 века (после 1886 г.) [82, фото].
Сведения о поселении Кажеское - Кажское и о Кажской волости содержатся, в частности, на портале «Старые карты Онежского уезда Архангельской губернии, границы уезда» (адрес - http://starye-karty.litera-ru.ru/uezd/arh_karta-onezhskiy_uezd.html) [98]. «Онежский уезд был образован в 1780 г. в ходе административной реформы Екатерины Второй в составе Архангельской области Вологодского наместничества из земель Турчасовского стана Каргопольского уезда. В 1784 г. в составе указанной области вошёл в состав самостоятельного Архангельского наместничества (с 1796 г. губерния). Административным центром уезда был город Онега, известный с 1137 г. (изначально поселение с названием Погост на море)» (рисунки 2.91-2.92, 2.218) [98, карты].

Рисунок 2.218 - Карта части Архангельской губернии с Онежским уездом 1821 года. Данные границы уезда сохранились до революции (адрес - http://starye-karty.litera-ru.ru/uezd/arh_karta-onezhskiy_uezd.html) [98, карта].
Дополнить приведенную выше характеристику Макарьино-Семеновской групповой системы населенных мест позволяют также статистические данные, опубликованные на портале «Onegaonline.ru» в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [82]. Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о деревне Макарьинская (Макарьенская), правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 234; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о селе Макарьинское, в котором на этот момент насчитывалось 8 дворов, в которых проживало 52 человека (19 - мужского и 33 - женского пола) [82; 92, с. 44].
В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о деревне Макарьинская. В этот период времени деревня относилось к Мардинской волости Кожского сельского общества и соответственно к Кожскому церковному приходу. Количество жилых дворов на данный момент составляло 13 единиц. Количество населения: мужского пола - 39, женского пола - 48 (всего 87 человек) [14, с. 170-171; 82]. А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о деревне Макарьинская и в ней к этому моменту насчитывалось 18 дворов, в которых проживало 105 человека обоего пола [82; 93, с. 16].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» имеется упоминание о селе Макарьинское. В данное время село относилось к Кожской волости Кожского сельского общества и по переписи 1920 года в нем насчитывалось 19 двор, а количество населения: мужского пола - 27, женского пола - 54 (всего 81 человек) [82; 94, с. 78]. В результате укрупнения волостей в 1924 году село Макарьинское вошло в состав Кожского сельского общества Чекуевской волости Онежского уезда [82; 95, с. 28-29].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о селе Макарьино, входящем в состав Усть-Кожского сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 345; 82].
Дополнить приведенную выше характеристику позволяют и фотоиллюстративные материалы, опубликованные на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Макарьино» (рисунки 2.219-2.251) [82, фото].
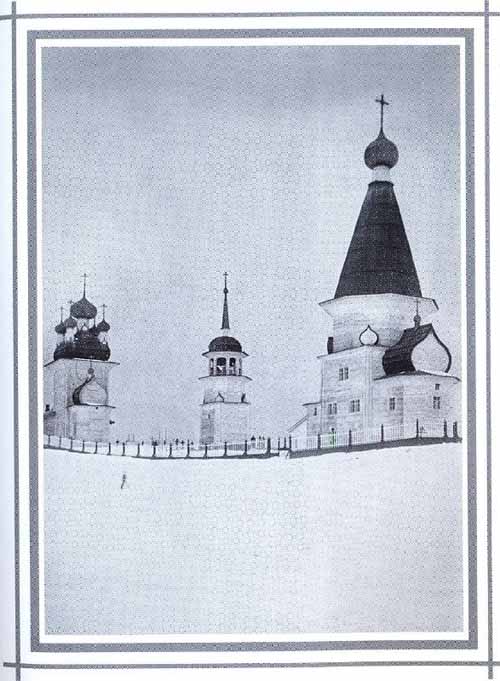
Рисунок 2.219 - Усть-Кожский приход. Слева направо: Климентовская церковь (1669 г.), колокольня, Воздвиженская церковь (1762 г.), фото из книги А.А. Каретников, «Деревянное церковное строительство», Архангельск, 2010 (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
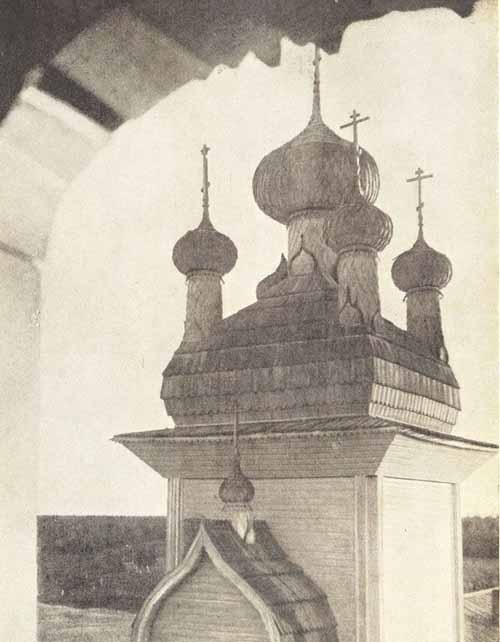
Рисунок 2.220 - Село Макарьино. Климентовская церковь 1695 г. (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.221 - Храмы в с. Макарьино. Фото начала 20 века [82, фото].
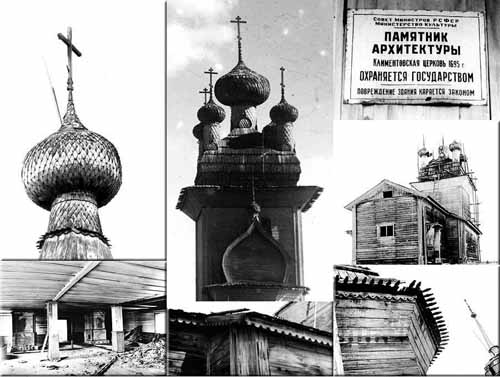
Рисунок 2.222 - Село Макарьино. Климентовская церковь 1695 г. (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
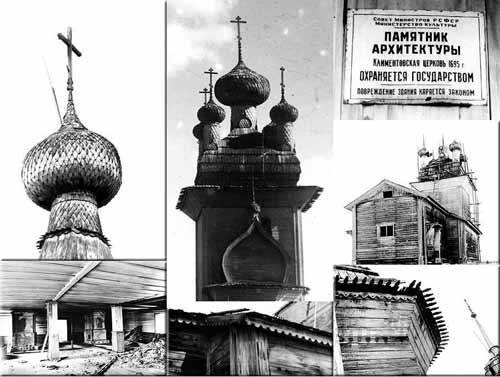
Рисунок 2.223 - Село Макарьино (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
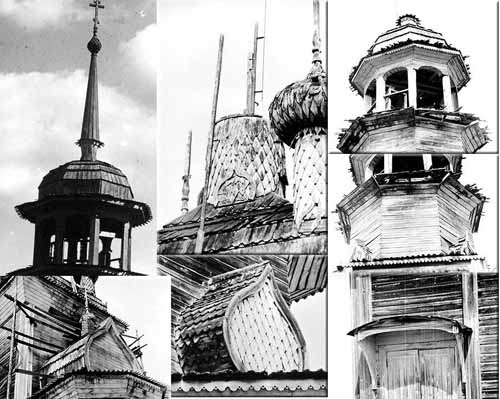
Рисунок 2.224 - Село Макарьино (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.225 - Село Макарьино. Шатровая церковь Святого Климента, папы Римского (1695 г.), колокольня (1695 г.) (автор и вре6мя съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.226 - Храмовый «тройник» - центр бывшего Кожского прихода: шатровая церковь Святого Климента, папы Римского (1695 г.), колокольня (1695 г.) и пятиглавая кубоватая Крестовоздвиженская церковь (1769 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.227 - Село Макарьино. Шатровая церковь Святого Климента, папы Римского (1695 г.) и колокольня (1695 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.228 - Село Макарьино. Храмовый «тройник» - центр бывшего Кожского прихода: шатровая церковь Святого Климента, папы Римского (1695 г.), колокольня (1695 г.) и пятиглавая кубоватая Крестовоздвиженская церковь (1769 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.229 - Село Макарьино. Шатровая церковь Святого Климента, папы Римского (1695 г.) и колокольня (1695 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.230 - Село Макарьино. Пятиглавая кубоватая Крестовоздвиженская церковь (1769 г.) и шатровая церковь Святого Климента, папы Римского (1695 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.231 - Село Макарьино. Храмовый «тройник» - центр бывшего Кожского прихода: шатровая церковь Святого Климента, папы Римского (1695 г.), колокольня (1695 г.) и пятиглавая кубоватая Крестовоздвиженская церковь (1769 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.232 - Село Макарьино. Колокольня (1695 г.) и пятиглавая кубоватая Крестовоздвиженская церковь (1769 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.233 - Село Макарьино. Храмовый «тройник» - центр бывшего Кожского прихода: шатровая церковь Святого Климента, папы Римского (1695 г.), колокольня (1695 г.) и пятиглавая кубоватая Крестовоздвиженская церковь (1769 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.234 - Село Макарьино. Шатровая церковь Святого Климента, папы Римского (1695 г.) и пятиглавая кубоватая Крестовоздвиженская церковь (1769 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.235 - Село Макарьино. Пятиглавая кубоватая Крестовоздвиженская церковь (Воздвиженская) (1769 г., по другим источникам -1762 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.236 - Село Макарьино. Пятиглавая кубоватая Крестовоздвиженская церковь (1769 г.) и колокольня (1695 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.237 - Село Макарьино. Храмовый «тройник» - центр бывшего Кожского прихода: шатровая церковь Святого Климента, папы Римского (1695 г.), колокольня (1695 г.) и пятиглавая кубоватая Крестовоздвиженская церковь (1769 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.238 - Село Макарьино. Пятиглавая кубоватая Крестовоздвиженская церковь (Воздвиженская) (1769 г., по другим источникам -1762 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
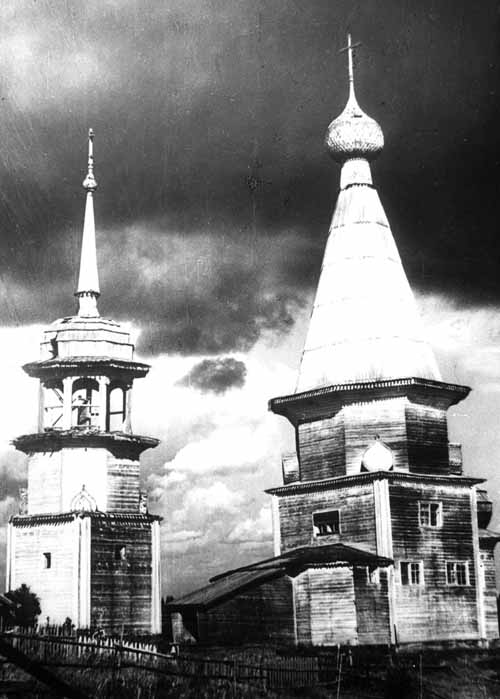
Рисунок 2.239 - Село Макарьино. Шатровая церковь Святого Климента, папы Римского (1695 г.) и колокольня (1695 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.240 - Село Макарьино. Пятиглавая кубоватая Крестовоздвиженская церковь (1769 г.) и колокольня (1695 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.241 - Село Макарьино. Храмовый «тройник» - центр бывшего Кожского прихода: шатровая церковь Святого Климента, папы Римского (1695 г.), колокольня (1695 г.) и пятиглавая кубоватая Крестовоздвиженская церковь (1769 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.242 - Село Макарьино. Шатровая церковь Святого Климента, папы Римского (1695 г.) и пятиглавая кубоватая Крестовоздвиженская церковь (1769 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.243 - Село Макарьино. Храмовый «тройник» - центр бывшего Кожского прихода: шатровая церковь Святого Климента, папы Римского (1695 г.), колокольня (1695 г.) и пятиглавая кубоватая Крестовоздвиженская церковь (1769 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.244 - Село Макарьино. Храмовый «тройник» - центр бывшего Кожского прихода: шатровая церковь Святого Климента, папы Римского (1695 г.), колокольня (1695 г.) и пятиглавая кубоватая Крестовоздвиженская церковь (1769 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.245 - Село Макарьино. Кожский ансамбль за поворотом р. Кожи (автор съемки неизвестен, 1970-е гг.) [82, фото].

Рисунок 2.246 - Церковь в Макарьино. Шатровая церковь Святого Климента, папы Римского (1695 г.) и колокольня (1695 г.) (фото В.Елфимова (Онега), март 1978 г.) [82, фото].

Рисунок 2.247 - Храмы в с. Макарьино на р. Кожа, 1985 год, фото сделано до пожара, храмы сгорели летом этого же года [82, фото].

Рисунок 2.248 - Село Макарьино. Один из домов (автор съемки неизвестен, 2005 г.) [82, фото].

Рисунок 2.249 - Село Макарьино. Крест-памятник. Видимо, крест с кладбища (автор съемки неизвестен, сентябрь 2005 г.) [82, фото].

Рисунок 2.250 - Село Макарьино. Опустевший берег. Здесь стоял Кожский «тройник» (автор съемки неизвестен, сентябрь 2005 г.) [82, фото].

Рисунок 2.251 - Село Макарьино. Современный вид. Осталось несколько нежилых домов (автор съемки неизвестен, сентябрь 2005 г.) [82, фото].
Характеризуя деревню Макарьино - Макарьинское - Макарьинская - Макарьенская - с. Макарьинское - с. Макарьино - Макарьинский погост - погост на р. Коже, следует, во-первых, упомянуть о сведениях из: «Краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской епархии» 1896 года [36], согласно которым становится известно, что «Кожский приход состоит из 8 деревень; 7 из которых расположены по берегам р. Кожи (лев. приток р. Онеги) и одна - за р. Онегою. Два приходских храма находятся в д. Макарьинской, прочие селения отстоят от них: одно - в одной версте, другое - в 2,5 вер-х, за р. Онегою, три - в 8 верстах и одно - в 12 верстах. От г. Архангельска приход удален на 285 верст, от г. Онеги - на 55 верст, от ближайших приходов: Корельскаго - на 14,5 в., Чекуевскаго, в котором находится почтовое отделение - на 18 в. Жителей к 1895 г.: 466 м.п. и 493 ж.п., дворов - 168.
Кожский приход образовался в 1695 г. В настоящее время (1895 г.) в нем два приходских храма и два приписных. Все они деревянные и 1-престольные, в плане - в форме креста. Из приходских храмов один Крестовоздвиженский, устроенный в 1769 г., 5-главый, обшит тесом и окрашен, другой - в честь св. Климента, папы Римскаго, устроенный в 1695 г., шатровый, также обитый тесом и окрашенный. Имеется отдельно стоящая колокольня, устроенная в 1695 г., тоже обитая и окрашенная. Из приписных - один в честь Препод. Никодима Кожеозерскаго, в д. Чирковской (Усть-Кожа) в 2,5 в-х от приходских храмов, устроенная в 1883 г. из часовни, и другой - в ч. св. Апостолов Петра и Павла, в д. Петровской, в 12 в-х от приходских храмов, устроенный в 1854 г. Утварью, ризницей и книгами все церкви снабжены в достатке. Кроме кружечно-кошельковаго сбора (на 1894 г. - 17 р. 83 к.) и свечной прибыли (63 р. 30 к.), в пользу храмов поступает плата за аренду сенокосов (на 1894 г. - 14 р. 60 к.). Причт (священник и псаломщик) владеют 9 десятинами земли, получает жалования 190 р. в год, других доходов - до 175 р. в год, %% с капитала в 300 р., пожертвованного московской купчихой Анной Гавриловной Страховой (200 р. в 1881 г.) и местным крестьянином Яковом Андреевичем Поповым (100 р. в 1892 г.). Дом для священника устроен в 1853 г., а для псаломщика - в 1815 г.
С 11 февраля 1890 г. в приходе существует церковноприход. школа, в наемной квартире. Учащихся в 1894-95 уч.г.: 26 мальчиков и 6 девочек. Закон Божий преподает местный священник бесплатно, остальные предметы преподает учительница девица Инна Галактионова, окончившая женское Епархиальное училище, с жалованием 120 р. в год из сумм Епархиального Училищнаго Совета. Приходским священником состоит о. Стефан Федорович Попов, 45 лет, уволенный из 3 класса дух. семинарии, в сане священника - с 15 августа 1876 г. и на занимаемом месте - с 25 июля 1887 г.. Псаломщиком - Павел Сильвестрович Заостровский, 41 г., уволенный из среднего отделения дух. училища, на службе - с 17 августа 1889 г.» [36; 82].
Интерес также представляет работа академика И.Э. Грабаря [16; 18]. Характеризуя Троицкую церковь в Шеговарах Шенкурского уезда Архангельской губернии (1666 г.), академик И.Э. Грабарь писал, что «в шеговарской церкви, такой же чрезмерно вытянутой в вышину, как и церковь в Малой Шальге, есть еще одна новая особенность, до того не встречавшаяся. Она касается не самой конструкции ее, a только особого декоративного приема, вызванного стремлением к «преукрашенности» и получающего с этих пор чрезвычайную популярность. Это - украшение четырех угловых граней восьмерика небольшими, исключительно декоративными бочками, или так называемыми теремками [16; 18, с. 184-185, рис.].
Восьмерик ставился на четверик всегда таким образом, что четыре из его восьми стенок совпадали с четырьмя стенами четверика и служили как бы их непосредственным продолжением. Четыре других стенки восьмерика рубились прямо на углах четверика, и на образуемых благодаря этому четырех угловых выступах водружались теремки. Теремки эти были особенно в ходу по Онеге и в Олонецком крае. Они скромно скрашивают суровую простоту деревянных храмов и чрезвычайно живописны на древних бревенчатых стенах, не обшитых еще тесом. Такой была еще недавно церковь Климента папы Римского в селе Макарьинском на реке Коже, впадающей в Онегу (рисунок 2.252).
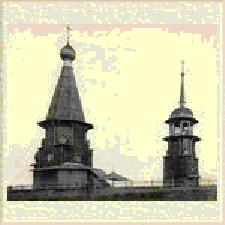
Рисунок 2.252 - Церковь Климента папы Римского в Кожском погосте Архангельск. губ., Онежск. уезда. - 1695 г. (Фот. В.В. Суслова) [16].
Она построена в 1695 г. и в настоящее время уже обшита тесом, значительно убавившим ее обаяние [36, с. 55]. Колокольня ее украшена такими же теремками и построена, вероятно, одновременно с церковью, но ее древний шатер заменен был в начале 19-го века куполообразной крышей с модным тогда шпилем. До какой степени излюблены были в Олонецком крае теремки, видно по изображению Александро-Свирского монастыря, находящемуся на одной иконе 18-го века (примечаине - Икона находится в собрании Н.П. Лихачева и издана им в его «Материалах для истории русского иконописания». СПб. 1906) [18, с. 186]. Обе церкви и колокольня здесь сплошь унизаны такими теремками, придающими всему монастырю какой-то сказочный вид» [16; 18, с. 186]. В работе И.Э. Грабаря имеются также сведения о колокольне Кожского погоста. «Последняя построена в 1695 году и в 18-м веке получила вместо шатра - шпиль» и имеет «на угловых выступах четверика теремки» [16; 36, с. 55].
Дополнительные сведения о Кожском погосте содержатся в книге архитекторов И.А. Бартенева и В.Н. Федорова «Архитектурные памятники Русского Севера», опубликованной в 1968 году [11]. «Чем ближе к Белому морю, тем все чаще встречаются кубоватые церкви с каноническим пятиглавием на главном объеме и почти совершенно исчезают церкви шатровые. Так, в селе Чекуево, там где Онега разветвляется на два рукава, вместо шатровых церквей, характерных для онежских погостов, были поставлены две кубоватые церкви (1675 и 1687 гг.). Из них сохранилась только одна - Преображенская церковь, причем кубоватое покрытие ее утрачено. Это характерное для XVII в. сооружение, необычайно красивое по силуэту, требует реставрации. Далее, при слиянии рек Онеги, Малой Онеги и Кожа, стоит кубоватая Климентовская церковь, построенная в 1695 г.» [11, с. 134].
Дополнить характеристику Кожского погоста, представленную в книгах искусствоведа И.Э. Грабаря и архитекторов И.А. Бартенева и В.Н. Федорова, позволяют данные, опубликованные в работе историка и краеведа Г.П. Гунна «Каргополье - Онега», изданной в 1974 году [20, с. 123-126]. «Но вернемся на Онегу и продолжим путь, теперь в Усть-Кожу. От пристани нам предстоит трехкилометровый путь до Кожского погоста. Идти высоким берегом реки Кожи, пока снова, как часто уже бывало в нашем пути, не встанет над лесом вершина шатра-ели. Здесь, на некотором удалении от деревни Макарьинское, среди хлебного поля близ реки расположен ансамбль погоста. Снова знакомый «тройник» - шатровая, кубоватая церкви и колокольня. В отличие от верхнемудьюжского погоста, стоящего в живописном окружении старых деревьев, макарьинские церкви стоят голо. Их природная оправа - поле, дали лесов и река под высоким берегом (рисунок 2.253) [20, с. 123-125, рис.].

Рисунок 2.253 - Ансамбль Кожского погоста. XVII-XVIII вв. [20, с. 124-125].
Старшей считается Климентовская церковь 1695 года* (Примечание *- «Краткое историческое описание приходов и церквей Арх. Епархии», ч. II. Здешний приход образован в 1659 г. Названы два храма: пятиглавый Крестовоздвиженский 1769 г. и св. Климента, папы Римского 1695 г. В «Известиях археологической комиссии» [29] названия и даты поменены местами. В альбоме «Русское деревянное зодчество» (М., 1942) Климентовской церковью названа кубоватая).
Церковь сравнительно небольших размеров. Узкий вытянутый четверик увенчан кубом красивого профиля. Куб соразмерен и компактен в объеме, боковые главки поставлены в тесном единстве с центральной завершающей главой. Длинные узкие шейки боковых главок продолжают вертикали граней четверика, сами же главки своей кривизной повторяют мягкие очертания куба, создают переход от плоскости стен к криволинейной поверхности. Изящество проявляется и в покрытии главок и шеек «в чешую», а куба крупным лемехом. Основания шеек всех пяти глав там, где они вырастают из куба, декорированы стрельчатыми теремками. Карниз живописно дробится зубчиками обрезных концов полиц.
В противоположность вытянутости основной массы вверх трапезная приземиста. Пятигранная апсида невелика, крыта бочкой вытянутой стрельчатой формы. В XIX веке церковь была обшита тесом, были расширены окна и перебран сруб трапезной. Там, где доски обшивки сняты, видны венцы с искрошившимися концами, почерневшие за века.
Шатровая Крестовоздвиженская церковь высотой своей и внушительностью превосходит более скромную старушечку кубоватую. У нее нет трапезной и приделов, поэтому она воспринимается целостно, как столпное сооружение. Это чистый тип шатрового храма (независимо от спорной даты постройки). С западной и северной стороны (немного не доходя до северо-восточного угла) четверик церкви обводит невысокая крытая галерея. На галерею ведет простое крытое крыльцо. Интересна дверь, ведущая из галереи в церковь: она двустворчатая, стрельчатой формы, створки ее расписаны цветами в народном стиле. Это придает внутреннему помещению церкви праздничность, нарядность.
В
еселый, нарядный вид и у колокольни, датируемой XVII-XVIII веками (перестроена в XIX веке). Колоколенка эта давно отмечена исследователями, начиная с В. Суслова, И. Грабаря. Она небольшая, в сравнении с церквами, и, хочется сказать, - игрушечная. Формы ее традиционны, как и вообще всех трех зданий погоста. Углы четверика украшены изящными теремками. Очень оживляют вид колокольни далеко выпущенные резные концы полиц над повалом и на кровле звонницы. Красиво смотрится прорезанное в бревенчатой массе четверика косящатое оконце. Завершение - шлемовидное со шпилем, как обычно, позднее.
Итак, к счастью, и на Коже сохранился в целости тройной ансамбль, классический ансамбль, где три компонента равноценны по художественной значимости. К сожалению, и здесь памятником архитектуры, подлежащим охране, считается только кубоватая церковь XVII века. Но ведь ансамбль даже как следует не изучен и датировки не уточнены! Да и как можно его разъединить! Достаточно увидеть, как стоят на пригорке две эти церкви, объединенные маленькой колокольней (уберите ее - и целостность нарушится), посмотреть окрест - на поле, на реку, на деревню за рекой, чтобы понять - заповедным должно стать само это место, где предки создали рукотворное чудо и сами мирно почили в этих сровненных с землей могилах.
Река Кожа, если подняться по ней вверх, приведет нас к Кожозеру. Дорогой туда пятьдесят километров. Будет на половине пути деревня, называемая Половина, а дальше жилья нет. Некогда на озере находился Кожеозерский монастырь, упоминаемый в описании Турчасовского стана. Сведений о Кожеозерском Спасском монастыре немного, самый известный факт - здесь с 1646 по 1649 год был игуменом будущий патриарх Никон» [20, с. 123-126].
Интерес также представляют и данные, опубликованные во второй книге Г.П. Гунна «Каргопольский озерный край», изданной в 1984 году [22]. «Начало пути от Усть-Кожи, - писал Г.П. Гунн, - отмечено замечательным ансамблем деревянного зодчества в деревне Макарьинское. Это - церкви Кожского погоста.
Как обычно в древности, место для постановки церквей тщательно избиралось и было найдено не на берегу Онеги, а в трех километрах от села, на возвышенном сухом берегу Кожи. Некогда церкви стояли обособленно, и лишь позже возникла небольшая деревенька. Одна из церквей, Климентовская 1695 г., - сравнительно небольших размеров, увенчанная изящным кубом с пятью главками. Крестовоздвиженская 1769 г. - прекрасный образец шатрового зодчества типа «восьмерик на четверике», столпообразного облика с величаво взмывающим ввысь шатром. Объединяет две эти постройки, служа связующим компонентом ансамбля, небольшая, стройная звонница (XVII-XVIII вв., перестроена в XIX в.)» (рисунок 2.254) [22, с.152, рис.].

Рисунок 2.254 - Село Усть-Кожа. Ансамбль XVII в. [22, с.152, рис.].
Не вдаваясь в подробное описание кожского ансамбля, неоднократно описанного и репродуцированного, отметим, что здесь представлены традиционные формы деревянного зодчества, разработанные мастерами Поонежья: формы куба и шатра. Две церкви с колокольней образуют знаменитый онежский «тройник» - тройной ансамбль, некогда украшавший многие села по течению Онеги (ныне в целости такой ансамбль сохранился также в селе Верхняя Мудьюга). Постановка двух церквей рядом обычно объясняется тем, что одна из них использовалась как зимняя (в данном случае - Климентовская, кубоватая), другая как летняя. Но, наверное, дело не только в этом. Северным плотникам хотелось шире выявить свое мастерство, создать среди скромного пейзажа нечто величественное, торжественное, радующее взор. Открытой красотой своей такой ансамбль служил добрым напутствием путнику, уходящему в дальнюю лесную дорогу» (рисунок 2.255) [22, с.150-152, рис.; 82].

Рисунок 2.255 - с. Макарьино. Шатровая церковь Святого Климента, папы Римского (1695 г.), колокольня (1695 г.) (автор и вре6мя съемки неизвестны) [82, фото].
«Мне особенно больно говорить об утрате этого памятника - у меня была особая привязанность к нему. Он провожал меня в путь на Кожозеро, он и встречал. Помню, как возвращались мы с Кожозера с моим другом Юрием Рыбаковым, в исходе вторых суток, одолев семь десятков верст нелегкого пути, в буквальном смысле слов не чуя под собой ног, и, казалось, не было конца раскисшей осенней дороге, как вдруг, взойдя на лесной холм, вырос над деревьями огромный шатер, а потом, выйдя из леса, развернулся весь ансамбль, одаривая своей приветливой красотой, как одаривал он ею многих усталых путников. Давней исторической обжитостью повеяло на нас, из безлюдья мы вышли на люди.
Я все еще не могу смириться, поверить, что его нет, как всегда трудно поверить в невозвратимую потерю, мне трудно произнести слово «был»...
Кожский погост находился не в самом селе Усть-Кожа на Онеге, а в трех километрах поодаль, у деревни Макарьинское. Здесь, на возвышенном берегу реки Кожи, было найдено наиболее удобное место в округе для постановки церквей. На открытом, голом берегу, поодаль от деревни, торжественным чином, в ряд стояли две церкви и колокольня.
Старшей считалась Климентовская 1695 года, кубоватая, сравнительно небольших размеров. Узкий вытянутый четверик ее венчал куб красивого профиля, компактный в объеме, - боковые главки стояли в тесном единстве с центральной завершающей главой. Во всем - в конструкции и в отделке деталей: соразмерности сруба четверика и оглавления, в мягких очертаниях куба и главок, в их отделке крупным и мелким лемехом, в декоративных теремках у основания шеек главок - во всем проявлялось особенное изящество стиля кубоватого зодчества, свойственного его цветущей поре.
Шатровая Крестовоздвиженская церковь (1769) высотой своей и внушительностью превосходила более скромную кубоватую старушечку. К ней не пристраивалось трапезной и приделов, потому она воспринималась целостно, как столпное сооружение, как чистый тип шатрового храма (независимо от спорной даты постройки). Лишь невысокая крытая галерея обводила храм с западной и северной сторон. Из галереи внутрь храма вела двустворчатая дверь стрельчатой формы, расписанная цветами в народном стиле, что придавало внутреннему помещению праздничную нарядность.
Изящно, нарядно выглядела и колокольня (XVII-XVIII веков, перестроена в XIX веке), отмеченная рядом исследователей деревянного зодчества, начиная с В. Суслова и И. Грабаря. В сравнении с церквами она невелика, казалась почти игрушечной. Особенно оживляли ее резные полицы над повалом в виде ожерелья и на кровле звонницы и изящные теремки по углам четверика. Невеликое сооружение это, тем не менее, играло созидающую роль; именно она была звеном, связующим обе церкви в единый ансамбль. Ни одно из этих замечательных сооружений не уцелело... Рассказывают, будто мальчишки бегали возле зданий с факелами и случайно подожгли. Как было на самом деле, мы не знаем. Расследования не проводилось, к ответственности никто не привлекался, как не расследовалось и дело о гибели церкви в Вазенцах.
Пусть в вас, мой читатель, кем бы вы ни были, северянином или жителем других мест, страшный факт этот, определению которого я не нахожу слов, возбудит справедливое негодование и заставит быть нетерпимее к любым нарушениям Закона об охране памятников истории и культуры. Слишком часто до недавнего времени мы только регистрировали потери и умалчивали о причинах гибели памятников, начиная со случаев равнодушия и небрежения и кончая актами вандализма. С тяжелым чувством оставляем мы Усть-Кожу» [82].
Интерес также представляют сведения, представленные в работе краеведа Г.Б. Дерягина «Окрестности Онеги», опубликованной на портале «Sudmed-nsmu.narod.ru» [25]. В своей работе ее автор писал, что возле деревни Чижиково река Онега «разветвляется на два рукава, огибающих 20-километровый остров. Один рукав называется «Большая Онега», по которому мы будем следовать, а второй рукав носит название «Малая Онега». В него впадает река Кожа, в устье которой стоит древнее село Усть-Кожа. Из этого села вдоль берегов реки Кожи (наиболее крупного притока Онеги) к истокам Кожи, в Кожозерский монастырь идет так называемая Монастырская дорога длиной 60 км.
Монастырская дорога и Кожозерский монастырь. Эта дорога и поныне заслуживает восхищения. Она экономно и расчетливо проложена по сухим лесным гривам вдаль высоких берегов порожистой Кожи, пересекает загаченные болота. Местами дорога идет прекрасной лесной просекой, прямой, как стрела. Дорога древняя, но мы видим ту, которая была построена в XIX веке игуменом Кожозерского монастыря Петеримом. До этого дорога славилась как плохо проходимая. По новой же дороге могли свободно разъехаться два колесных экипажа. По местной легенде, проверял качество дороги сам игумен, который во время поездки ставил в коляске перед собой посох. Там, где посох подскакивал, игумен останавливался, осматривал ухаб и ве¬лел его заделывать. До сих пор эта дорога проходима, по ней отгоняют стада на летние выпасы, по ней можно проехать на мотоцикле, хотя с XIX века дорогу никогда не ремонтировали» (рисунок 2.256) [25, фото].

Рисунок 2.256 - Часовня (19 век) на монастырской дороге (часовня в деревне Остров - П.М.) [25, фото].
«Начало пути от Усть-Кожи к монастырю было отмечено замечательным ансамблем деревянного зодчества в селе Макарьинском, которое являлось центром Кожского прихода. Кожский приход имел 168 дворов, жителей там насчитывалось 959 человек на 8 деревень. В селе Макарьинском стоял классический онежский тройник: церковь Св. Климента, папы Римского, освященная в 1659 году, Крестовоздвиженская церковь поставленная в 1769 году. Между ними в XVII веке срубили колокольню. Кроме того, в деревне Петровской в 1854 году поставили церковь Св. Петра и Павла, а в деревне Чирковской в 1883 г. (в 2,5 верстах от Макарьинской) - храм Преподобного Никодима» (рисунок 2.257) [25, фото].

Рисунок 2.257 - Тройник в селе Макарьино. Фото середины ХХ в. [25, фото].
«Место для центра прихода было найдено в З км от Усть-Кожи ва высоком сухом берегу, им восхищался академик И.Э. Грабарь, который и описал его, как классический пример Онежского тройника. Подобные тройники некогда украшали многие села по течению Онеги, и были характерны для Онеги. Постановка церквей рядом друг с другом обычно объяснялась тем, что одна из них использовалась как летняя, а другая - как зимняя. Один храм был шатровым, причем, как правило, более древний храм, и он всегда использовался как летний, а другой храм был с кубоватым завершением, обычно многоглавым, использовался как зимний. Постановка двух, шатровой и кубоватой церквей рядом может еще объясняться как компромисс между народными традициями и установками официальной церкви, которая запрещала по указу Никона строительство шатровых храмов и звонниц. Но, наверное, дело не только в этом. Северным мастерам хотелось шире проявить свое мастерство, создать из скромного пейзажа нечто величественное, торжественное, радующее взор. Своей изумительной красотой, усиливаемой яркими контрастами красок леса, реки, луга, глубокого в солнечную погоду неба, такой ансамбль служил добрым напутствием путнику, уходящему в дальнюю лесную дорогу. К сожалению, в 1985 году эта красота перестала существовать - тройник был сожжен школьниками. Государство оценило потерю всего в 8 тысяч рублей, именно такую сумму выплатили государству родители поджигателей» [25].
Сведения о Макарьино-Семеновской групповой системе населенных мест содержатся также в работе архитектора Ю.С. Ушакова «Ансамбль в народном зодчестве Русского Севера: Пространственная организация, композиционные приемы, восприятие» [107]. В разделе под заголовком «Приемы архитектурно-пространственной организации селений и их систематизация» Ю.С. Ушаков приводит классификационную таблицу традиционных поселений, в числе которых упомянуто село Усть-Кожа (Макарьино) Онежского района Архангельской области, отнесенное им к центричным с круговым восприятием, приречным, при малой реке населенным пунктам типа «I, A, 1, a» (рисунок 2.10) [107, с. 40-41, табл. 2].
«Для того чтобы понять, как варьируется тот же вид композиции селения в иной природной ситуации, рассмотрим еще один пример. Селения б. Усть-Кожского погоста разместились вблизи впадения реки Кожи в Онегу (село Усть-Кожа, Онежский район Архангельской области) * (* - Селения б. Усть-Кошского погоста обследованы и обмерены автором в 1978 г.). Место для центрального села погоста - Макарьино было выбрано на мысе, ограниченном с одной стороны рекой Кожей, а с другой - Кужручьем (рис. 12). Обе эти водные дороги на запад вели к озерам (Кожозеро и Кужозеро), а вблизи села в километре от Онеги сливались вместе» (рисунок 2.258) [107, с. 44-45, рис. 12].
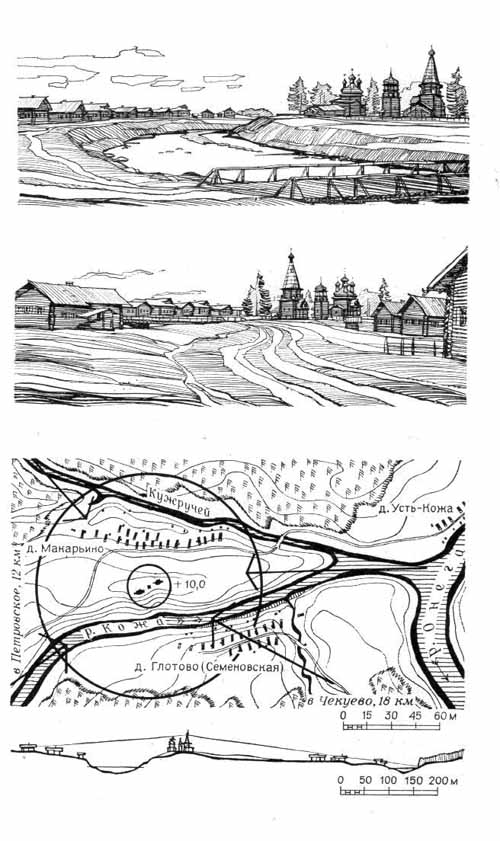
Рисунок 2.258 - Село Усть-Кожа (Макарьино), Онежский район Архангельской области. План и сечение [107, с. 43, рис. 12].
«На левом высоком (10 м) берегу Кожи размещен был центр погоста - пятиглавая церковь Климента (1695 г.), шатровая Крестовоздвиженская церковь (1769 г.) и колокольня (XVIII в.). Два порядка домов села Макарьино обращены на юг и на погост, но тяготеют к Кужручью. На правом берегу Кожи против погоста встала деревня Глотово (Семеновская), дома которой обращены окнами на две стороны - на северо-запад и юго-восток. Таким образом, общественный центр, оказавшийся между двух селений, виден из каждого дома и служил ориентиром с запада - с водных дорог по Коже и Кужручью. Раньше, когда оконечность мыса не была залесена, селение просматривалось и с реки Онеги, завершая тем самым круговое его восприятие» [107, с. 44-45].
«Появление теплой церкви и позднее колокольни, обслуживавшей обе церкви - теплую и холодную, привело к образованию традиционной для русского погоста триады, намного увеличившей композиционные возможности народных зодчих. Расположение трех построек по диагонали друг к другу - естественное развитие двухчастной диагональной композиции (рис. 101). Колокольня, как бы связывая воедино оба храма, ставилась между ними так, например, как это сделано в селах Нёноксе (Северодвинский район Архангельской области), Верховье (Верхнем Мудьюге) и Усть-Коже (Макарьино) Онежского района (рис. 101, 1, 2 и 3). И величина сдвижки построек относительно друг друга, и ее направление в каждом случае были сугубо индивидуальны и зависели от ориентации, рельефа и восприятия общественного центра села с основных направлений» (рисунок 2.259) [107, с. 130-132, рис. 101.2].

Рисунок 2.259 - Композиционный прием диагонального взаиморасположения построек храмового комплекса при грех компонентах (диагональная система) 1 - село Нёнокса, Северодвинский район Архангельской области. Храмовый ансамбль. План и южный фасад. А – Троицкая церковь, 1729 г.; Б - Никольская церковь, 1763 г.; В - колокольня, 1834 г; 2 - село Верховье (В. Мудьюг), Онежский район Архангельской области. Храмовый ансамбль. План и южный фасад. А - церковь Входоиерусалимская, 1754 г.; Б - колокольня, 1787 г.; В - церковь Тихвинская, 1865 г.; 3 - село Усть-Кожа (Макарьино). Онежский район Архангельской области. Храмовый ансамбль. План и западный фасад. А - церковь Климента, 1695 г.; Б - церковь Крестовоздвиженская, 1769 г.; В - колокольня, XVII-XVIII вв.; 4 - село Филипповское на Почозере, Плесецкий район Архангельской области. Храмовый ансамбль. Реконструкция. План и восточный фасад. А - церковь Обретения Главы И. Предтечи, 1700 г.; Б - церковь Происхождения Честных Древ, 1700 г.; В - колокольня, XVIII в. [107, с. 132, рис. 101].
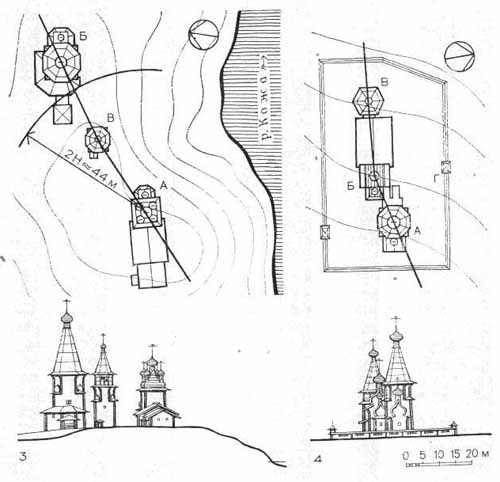
Рисунок 2.259 - Композиционный прием диагонального взаиморасположения построек храмового комплекса при грех компонентах (диагональная система) 1 - село Нёнокса, Северодвинский район Архангельской области. Храмовый ансамбль. План и южный фасад. А – Троицкая церковь, 1729 г.; Б - Никольская церковь, 1763 г.; В - колокольня, 1834 г; 2 - село Верховье (В. Мудьюг), Онежский район Архангельской области. Храмовый ансамбль. План и южный фасад. А - церковь Входоиерусалимская, 1754 г.; Б - колокольня, 1787 г.; В - церковь Тихвинская, 1865 г.; 3 - село Усть-Кожа (Макарьино). Онежский район Архангельской области. Храмовый ансамбль. План и западный фасад. А - церковь Климента, 1695 г.; Б - церковь Крестовоздвиженская, 1769 г.; В - колокольня, XVII-XVIII вв.; 4 - село Филипповское на Почозере, Плесецкий район Архангельской области. Храмовый ансамбль. Реконструкция. План и восточный фасад. А - церковь Обретения Главы И. Предтечи, 1700 г.; Б - церковь Происхождения Честных Древ, 1700 г.; В - колокольня, XVIII в. [107, с. 132, рис. 101].
«Не обойден вниманием в северорусских ансамблях и принцип контраста, возникший, правда, позднее. И здесь немало блестящих примеров. Прежде всего, нельзя забывать, что сам прием вертикальной устремленности шатровых храмов находится в контрастном сопоставлении с горизонталями северорусского ландшафта и порядков жилых домов. Один из впечатляющих примеров такого решения - 42-метровый столп Успенского храма в селе Кондопога (Кондопожский район КАССР) на горизонтали полуострова (см. рис. 31). Не менее сильное впечатление производит взлет вертикалей ансамбля села Пияла (Онежский район Архангельской области) на низких берегах среднего течения Онеги (рис. 109).
На контрасте основан и прием сочетания в одном погосте разных по характеру завершения храмов: вертикали шатра холодной церкви и крытого пятиглавым кубом теплого, как в ансамблях сел Усть-Кожа и Пияла (рис. 101, 3 и 102, 2); двух шатров и многоглавия, как в ансамбле села Лядины (рис. 102, 5), или же шатрового и бочечного покрытий, как в ансамбле села Филипповского на Почозере (рис. 116)» [107, с. 143].
Сведения о селе Макарьино и о Кожском храмовом комплексе имеются, в частности, и в статье краеведа А.Я. Привалихина, опубликованной на портале «Onegaonline.ru» (рисунок 2.260) [82, фото].

Рисунок 2.260 - Храмовый «тройник» - центр бывшего Кожского прихода: шатровая церковь Святого Климента, папы Римского (1695 г.), колокольня (1695 г.) и пятиглавая кубоватая Крестовоздвиженская церковь (1769 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
«К Макарьинскому приходу было приписано 8 деревень - Чижиково, Усть-Кожа, Макарьино, Глотово, Кислуха, Остров, Сидоровская, Верхний Двор (Петровская). Центром прихода был Макарьинский погост (погост на р. Коже). Когда-то народ со всех окрестных деревень собирался в Макарьинских храмах. На молебен собирались сотни людей. Здесь общались и знакомились, узнавали деревенские новости, женихи высматривали невест, невесты - женихов. В эти церкви сотни лет с этих деревень крестьяне привозили крестить своих младенцев (тысячи детей получили здесь свои имена), здесь соединяли судьбу молодые люди, здесь отпевали и провожали в последний путь отошедших в мир иной.
Говорят около 300 лет простоял этот красивый ансамбль Макарьинских церквей. В наше время вот уже много лет стояли они никому ненужные и сиротливо умирали. Свободный доступ сыграл свою роль - спален этот красивый ансамбль до основания. Настолько мы отвыкли от дедовых традиций и очерствели наши души, словно сгорели не церкви, а куча ненужного мусора.
В детстве мне много приходилось о Макарьинской церкви слышать рассказов и хотелось посмотреть, что там происходит. Одна богомольная старушка уговорила мать отпустить меня с ней перед Пасхой к заутрени. Мать долго колебалась, боясь строгого наказания местных властей - за этим строго следили.
Рано утром о начале службы возвестил большой церковный колокол. Церковь была набита битком. Старушка купила мне тонкую свечку и шепнула: «Если от ладана закружится голова, выйди на чистый воздух» Я тихонько пролез о стену на самый перед, в левой руке держал шапку, в правой - горящую свечку. Впервые в жизни я видел такую массу людей с горящими свечами в руках. Крестясь, они отдавали низкие поклоны. От тусклого света свечей стены и потолки церкви блестели каким-то золотым отливом, все, что здесь происходило, было далеко непонятным для детского разума. Мне казалось, что я находился в каком-то другом мире. Пел церковный хор. Стройные мужские и женские голоса и среди них выделялся голос священника. Прижавшись к церковной стене, я смотрел на этих людей и думал: «Зачем и для чего они собрались сюда, кому они молча отдают низкие поклоны?» Стройное пение церковного хора вливалось в детскую душу.
Только спустя много лет, я понял: люди чувствовали, что это последняя служба, церковь будет закрыта, священник арестован. Права была старушка, больше я никогда не бывал в церкви.
Прошло лет 30, кончилась Отечественная война, и случай свел меня быть около Макарьинских церквей. Я стал вспоминать годы далекого детства и посещение этой церкви. Особенно поражал своим величием Крестновоздвиженский храм. Я смотрел на макушку креста и вспоминал легенду о том, как зодчий устанавливал крест. Он встал на верхнюю перекладину, ни за что не держась, отдал поклоны всем четырем сторонам света. Я определил, что высота до макушки креста не менее 50 метров Люди смотрели на зодчего и удивлялись его смелости. Я смотрел на этот красивый ансамбль, а память восстанавливала то далекое апрельское утро, службу заутрени. После молебна все люди вышли на улицу. Было тепло. Большая масса людей шла с пением вокруг церквей, впереди несли хоругви. В эти минуты никто не обращал на меня внимания. Я тоже шел без головного убора, смотрел на людей, рассматривал панораму незнакомой местности и любовался красивыми церквями. И вот сейчас, через 30 лет, я смотрел на этот ансамбль. Он потерял за эти годы прежний вид, почернел и никому стал не нужен. Я думал, что, наверное, никого нет в живых из тех людей, которые так низко отдавали поклоны в последнюю службу в Макарьинской приходской церкви. На стене церкви прибит железный лист, но дожди и время сделали свое дело - надпись не прочитать. У меня появилось желание зайти в церковь. Заходя в тамбур, я снял шапку, отдал низкий поклон в дань памяти старины глубокой, а может и за то, что меня крестили в этой церкви и нарекли имя. Здесь венчали моих родителей. Был умеренный ветер, на ржавых навесах скрипела полуоткрытая дверь. Я шагнул через порог, зашел в церковь - дальше идти было некуда, по всему полу лежал слой догнивающей картошки. Потолки, стены были ободраны, в оконной раме побрякивал осколок стекла, слегка нарушая эту безмолвную тишину.
Мне стало жутко одному, в сознании появилась мысль, а вдруг произойдет чудо, и появятся все эти люди со свечами в руках, и будут отдавать низкие поклоны, запоет церковный хор, среди голосов будет выделяться голос священника. Мне стало не по себе, и я быстро вышел за дверь.
По долгу работы я в каждое утро проходил мимо Макарьинского ансамбля. С Макаровских полей издалека, из-за крон деревьев словно парил над лесом красивый «кумпол» с высоким крестом. Выходя на чистую поляну, я подолгу любовался этим творением рук человеческих наших великих зодчих, которые всегда берегли и хранили русскую славу и христианскую веру. От этих воспоминаний теплела душа, а рука тянулась снять с головы шапку и отдать низкий поклон великим творцам святого дела» [82].
Сведения об Усть-Кожском погосте как ансамбле из двух церквей: церкви святого Климента, папы Римского и церкви Воздвижения Креста Господня можно также найти в монографической работе искусствоведа Т.М. Кольцовой «Иконы Северного Поонежья» [33, с. 292-299].
Наконец, необходимо отметить, что Макарьино-Семеновская групповая система населенных мест ранее относилась к категории акцентированных ГСНМ, поскольку в ней существовал храмовый комплекс, в состав которого входили: пятиглавая церковь Климента (кубоватая Климентовская, Климента папы Римского, Святого Климента, папы Римского, в честь святого Климента, папы Римского) (1695 г. - («Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии» 1896 года, И.Э. Грабарь, Г.П. Гунн, И.А. Бартенев, В.Н. Федоров, Ю.С. Ушаков, В.И. Пилявский, А.А. Тиц), по другим источникам (А.А. Каретников) - 1669 г., (Б.Г. Дерягин) - 1659 г., 1769 г.), шатровая Крестовоздвиженская церковь (1769 г. - («Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии». 1896 года, Г.П. Гунн, Ю.С. Ушаков, В.И. Пилявский, А.А. Тиц), по другим источникам (А.А. Каретников) - 1762 г.), колокольня (1695 г. - («Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии». 1896 года) и перестроена в XVIII в. - (И.Э. Грабарь), по другим источникам (Г.П. Гунн) - XVII-XVIII вв. и перестроена в XIX в.), (Б.Г. Дерягин) - XVII в., (Ю.С. Ушаков, В.И. Пилявский, А.А. Тиц А.А.) - XVIII в.) [11, с. 134; 16; 18, с. 184-185, рис.; 20, с. 123-126, рис.; 25; 22, с.150-152, рис.; 33, с. 292-299; 36, с. 55; 63, с. 72, рис. 1.68-II, с. 74-75; 82; 107, с. 43-45, рис. 12, с. 130, 133, рис. 101]. «К сожалению, в 1985 году эта красота перестала существовать - тройник был сожжен школьниками» [25].
В перспективе Макарьино-Семеновская групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.1.10 Малошуйская ГСНМ, Малошуйская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область.
Малошуйская групповая система населенных мест находится в северной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 85 км к западу от районного центра - города Онеги и на расстоянии 5 км к северо-западу от рабочего поселка Малошуйка - административного центра Малошуйской поселковой администрации.
Малошуйская ГСНМ расположена на северо-западном (правом) и юго-западном (левом) берегах в излучине реки Малошуйки, впадающей с юга в Белое море, и образовалась в результате срастания деревень Вачевская 2-я - Низ - Нижняя (1), Вачевская 1-я - Верховье и Абрамовская - Заречье в село Малошуйка - Малошуйское, позднее получившее название деревни Абрамовской (рисунки 2.1, 2.30, 2.80, 2.81, 2.83, 2.86, 2.151, 2.261-2.265) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 22; 57, карты; 75, карты; 82, карты; 107, с. 13, рис. 1]. На период полевых работ Историко-архитектурной экспедиции Петрозаводского государственного университета 1987 года в деревне Вачевская 2-я - Низ - Нижняя - с. Малошуйка - Малошуйское насчитывалось 14 жилых домов, в деревне Вачевская 1-я - Верховье - 89 жилых домов, а в деревне Абрамовская - Заречье - 47 жилых домов.
Архитектурно-типологическое описание планировки и застройки Малошуйской ГСНМ, содержащееся в формуле «К1/2(2)(01.3->01.1), ПК1/1, Т3/2(1), ПТ2, В4/_(4):[В2/1(2)+В3/1(3)], ПВ5:[ПВ4/3(3)(01.2)(02.3)(03.2)(04.2)->ПВ3/2(1)(01.1)(02.1)], Р1», приведено в приложении А и в таблице Б.1.
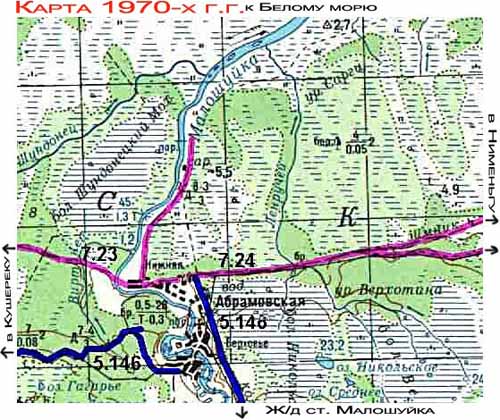
Рисунок 2.261 - Деревня Малошуйка - Абрамовская Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1970-х гг.) [82, карта].
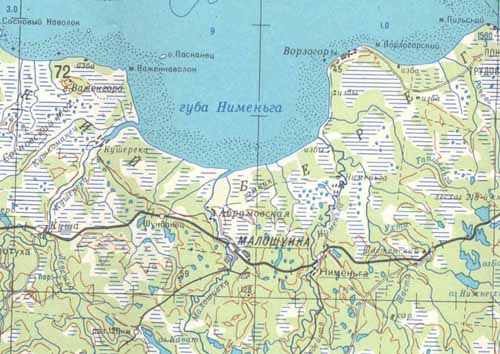
Рисунок 2.262 - Деревня Малошуйка - Абрамовская Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1991 г.) [57, карта].
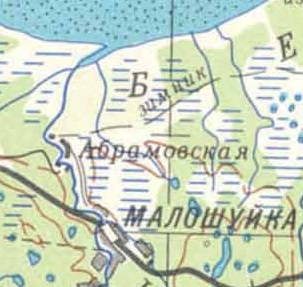
Рисунок 2.263 - Деревня Малошуйка - Абрамовская Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1991 г.) [57, карта].
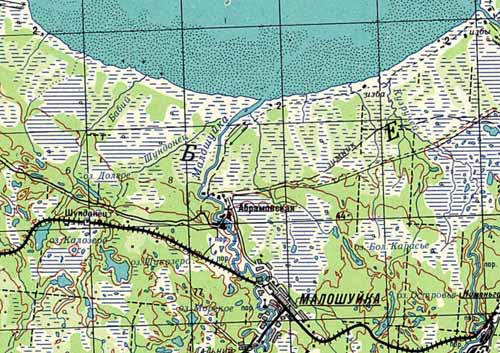
Рисунок 2.264 - Деревня Малошуйка - Абрамовская Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1991 г.) [1060, карта].

Рисунок 2.265 - Деревня Малошуйка - Абрамовская Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1991 г.) [58, карта].
Сведения о Малошуйской волости и о поселении Малошуйское содержатся, в частности, на портале «Старые карты Онежского уезда Архангельской губернии, границы уезда» (адрес - http://starye-karty.litera-ru.ru/uezd/arh_karta-onezhskiy_uezd.html) (рисунки 2.91, 2.92, 2.218) [98, карты].
Дополняя выше приведенную характеристику Малошуйской групповой системы населенных мест, следует также упомянуть о сведениях из «Краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской епархии» 1896 года [36], согласно которым становится известно, что Малошуйский приход «расположен по Онежско - Кемскому почтовому тракту, недалеко от устья небольшой порожистой р. Малошуйки, впадающей в Онежскую Губу Белого моря. Ближайшие приходы: Нименьгский - в 12 верстах к востоку, Кушерецкий - в 16 верстах к западу. До г. Онеги - 45 верст, до г.Архангельска - 278 верст. В составе прихода две деревни: Вачевская, с приходскими храмами; Абрамовская, в полуверсте от первой. Жителей на 1.01.1895 г. состояло: 536 м.п. и 656 ж.п.
О времени образования прихода достоверных сведений нет, т.к. письменных упоминаний не осталось. Но можно предположить, что приход образовался не позднее начала 17–го века, судя по Указу митрополита Новгородскаго и Великолуцкаго Афония к игумену Кожеозерскаго монастыря Ионе от 28 фев. 1638 г.. Митрополит приказывает построить новый деревянный храм в ч. Святителя Николая на месте сгоревшаго, одноименнаго «в волости Шуйка», принадлежащей монастырю. Мы видим, что первоначально приход находился в ведении Кожеозерскаго м-ря под названием «Шуйской монастырской волости». Видимо, поэтому пахотные земли на другом б-гу реки, напротив церквей, сейчас (на 1896 г.) называются «монастырка».
Храм в ч. Николая Чудотворца, построенный в 1638 г., существует до настоящего времени (на 1896 г. и на 2008 г. - С. Головченко), благодаря неоднократным ремонтам. Первоначальный его внешний вид изменен, а здание увеличено пристройкой паперти. Особенно он серьезно подвергся ремонту с внешней стороны в 1825 г., а внутри - в 1865 г. Престол один, в ч. Святителя Николая Чудотворца. Храм 1-главый, шатровый.
Кроме Никольскаго храма в 1698 г. 16 дек. в этом приходе был освящен другой деревянный храм во имя Сретенья Господня. Это следует из акта, копия которого имеется в памятной книге 1822 г. Храм этот сгорел в 1870 г. На месте сгоревшаго, отчасти на средства прихожан, а отчасти на пожертвования, собранные с разрешения Духовной Консистории по всей России, построен новый храм, который 8 дек. 1873 г., по благословению преосвященнаго Ювеналия, был освящен тогдашним протоиереем Онежскаго собора о. Алексеем Тошаковым при участии священников: Малошуйскаго прихода - о. Александра Ульяновскаго; Нименьгскаго пр-да - о. Михаила Василевскаго; Ворзогорскаго - о. Василия Дмитриева; Кушерецкаго - о. Евгения Синцова и диакона Онежскаго собора о. Иоанна Щеколдина.
При церквях имеется отдельно стоящая колокольня, деревянная, шатровая (на 1895 г. - ?), построенная в 1807 г.
Все церковные здания обшиты тесом, окрашены и обнесены деревянной оградой. Ризницей ц-ви достаточны, а вот утварью скудны. Из древних вещей, находящихся в ц-ви Св. Николая, следующие: 1. Дарохранительница металлическая с двумя отделениями; 2. Дароносица со всеми принадлежностями оловянная, в форме 4-конечного креста; 3. Потир оловянный; 4. Крест напрестольный деревянный , 16 или 17 вв.; 5. Крест напрестольный деревянный, только более поздний, обложенный тонкими полосками жести; 6. Евангелие напрестольное Московской печати 7165 г.(1657 г.), пожертвованное в 1658 г. прихожанином Абрамом Стефановым с братьями на помин души их и их родственников, обложенное бархатом, по всей вероятности, в позднее время; средняя часть и профили Евангелистов на верхней доске (обложке - С. Головченко) из листового серебра 76 пробы; 7. Венцы брачные, деревянные, 16 или 17 вв., с изображениями: на одном - Спасителя, на другом - Знамения Пресвятой Богородицы; 8. Ковшичек для «теплоты» медный; 9. Икона Архангельских святых: Пахомия Кенскаго, Никодима Кожеозерскаго, Александра Ошевенскаго и Диодора Юрьевогорскаго, написанная в 17 в. (после 1640 г.- года преставления Никодима Кожеозерскаго - С. Головченко).
Храмы прихода содержатся за счет кружечно-кошелькового сбора , прибыли от свечной торговли, случайных пожертвований и небольшими средствами попечительства, созданного в 1893 г. На приходском кладбище в 1884 г. на средства прихожан построена часовня в ч. Архангела Михаила и Св. Апостолов Петра и Павла.
Имеется сельское училище. Причт, состоящий из священника и псаломщика, владеет 12 десятинами земли, дающей прибыли от 30 до 50 р. в год, получает жалования 210 р. в год, другие доходы - до 300 р. в год. Кроме этого причт получает %% с капитала в 300 р. Проживает в 2-х домах, из которых священнический 2 - этажный, а дом псаломщика 1- этажный и маловместительный.
Из бывших священников Малошуйскаго прихода известны: о. Иоанн Гаврилов, имя котораго упоминается в 1658 г., в подписи на пожертвованном Евангелии; о. Василий Тимофеев, упоминаемый в 1667 г. В памятной книге уже названы имена более позднего времени: о. Дмитрий Фёдоров - 3 года дьячком и 50 л. священником, с 1753 по 1803 гг. и умерший в 1808 г.; о. Гавриил Молчанов - с 1804 по 1809 гг., переведенный потом в Сумский посад; о. Симеон Молчанов, брат его - с 1809 по 1849 гг.; о. Прокопий Петрович Поликин - с 1849 по 1851 гг., ныне (на 1896 г.) протоиерей кладбищенской церкви г. Архангельска; о. Иоанн Самуилович Келарев - с 1851 по 1856 гг.; о. Иоанн Германович Попов - с 1856 по 1867 гг.; о. Иосиф Васильевич Нечаев - с 23 июля по сент. 1867 г.; о. Александр Васильевич Ульяновский - с 1868 по 1876 гг.; о. Афанасий Григорьевич Поликин - с 1876 по день смерти - 7 авг. 1893 г.
Нынешний состав причта: Священник о. Михаил Максимович Верюжский, 24 л., студент семинарии, в сане священника с 5 дек. 1893 г. Псаломщик - Иван Васильевич Шангин, 27 л., окончивший духовное училище, на службе с 29 янв. 1885 г., в этом приходе с 22 янв. 1894 г.» [36; 82].
Для общей характеристики Малошуйской ГСНМ интерес также представляют сведения, собранные краеведом С. Головченко и опубликованные на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Малошуйка» [82]. «Старинное поморское село Малошуйка (Абрамовская) расположено в 5 км от ст. Малошуйка Северной железной дороги, на берегу небольшой порожистой одноименной реки. Природно-географически это поселение приморско-приречное, но на некотором удалении (5 км) от моря (классификация архитектора Ю.С. Ушакова [107]).
Основная причина этого удаления - защита от господствующих здесь почти круглый год холодных северо-западных и северо-восточных ветров. Поэтому дома основной жилой застройки, деревни Верховье и Заречье, укрыты в излучине реки за отошедшими от русла грядами коренных берегов так, что с дальних подходов (например, с дороги, ведущей от станции) и не видны. Зато храмовый «тройник» (на фото нач. XX в.): шатровая Никольская церковь (1638 г.), пятиглавая теплая Сретенская церковь (1873 г.) и колокольня (1807 г.), поднят на высокий (15 метров) мыс гряды и хорошо виден из всех деревень и с дорог, ведущих к селу, и открыт всем ветрам. Пронзительность и мощь этих налетавших всегда внезапно и при любой погоде потоков воздуха в полной мере испытали на себе бригады реставраторов, работавшие здесь в 1986-88 годах. Как говорил тогда местный пастух, наш сосед по общежитию: «Моряна задула!» (рисунок 2.266) [82, фото]:

Рисунок 2.266 - Деревня Малошуйка - Абрамовская Онежского района Архангельской области. Храмовый «тройник» шатровая Никольская церковь (1638 г.), пятиглавая тёплая Сретенская церковь (1873г.) и колокольня (1807 г.) (автор съемки неизвестен, фото нач. XX в.) [82, фото]:
«А какие виды открываются с более чем тридцатиметровой высоты! В деревнях виден каждый дом, за рекой, в сторону села Кушереки, раскинулись картофельные поля и сенокосы на фоне леса. На северо-востоке, как на ладони, за болотами, горбатится Ворзогорский мыс (46 м над уровнем моря), хотя до него по прямой более 20 км. В хорошую погоду в бинокль видны ворзогорские деревянные храмы, само село Ворзогоры и, естественно, Онежский залив до горизонта.
Ближе к морю, у деревни Низ, на двух противоположных выступах гряды были размещены: часовня Михаила Архангела со старинным кладбищем - на правом берегу, и высокий поклонный Крест - слева, на горе Крестовухе (в 1972 г. Ю.С. Ушаков их уже не застал [107]). На месте часовни и кладбища в 1986 г. (в этом году проводились ремонтно-консервационные работы на колокольне) мы увидели, как не прискорбно, скотные дворы, гаражи совхозной техники. Территория же вокруг храмов напоминала склад металлолома, а сами здания имели весьма неприглядный вид: сгнившие кресты, провалы в верхних частях глав, протекающие кровли, беспорядочно оторванная обшивка…
Прошло уже 20 лет: железо тогда куда-то вывезли; а новые кресты, кровли потемнели, свежий лемех сравнялся по цвету со старым - все как положено. Не за горами следующий ремонт, если снова не ждать лет 50-60, когда доски на крышах начнут превращаться в труху, а вода польется на стены. Будем надеяться, что местные жители больше такого не допустят, а храмы по-прежнему будут украшать это древнее поморское село. Тем более, что они чудом уцелели в 1989 г., когда лесной пожар с болот через дорогу перекинулся на деревни Верховье и Заречье, превратив в пепел около 20 жилых домов, не считая хоз. построек.
Как добраться. До ст. Малошуйки можно доехать поездами дальнего следования мурманского направления, например «Вологда - Мурманск» (Северная ж/д). По летнему расписанию через неё проходят и дополнительные «южные»; из Москвы и Санкт-Петербурга - через ст. Беломорск в направлении ст. Обозерская. Так что «стыковки» поездов нужно рассчитать, использовав сайт Министерства Путей Сообщения РФ.
От станции до д. Абрамовской - хорошая грунтовая дорога (5 км пешком или «попуткой»). Жаль, но о местах ночлега по состоянию на 2007 г. мы пока не располагаем достоверной информацией: к следующему сезону постараемся узнать. 20 лет назад с этим было проще. На станции недавно появилась мобильная связь, есть и пункты приёма платежей.
Зимой же, когда начинает действовать ледовая переправа через р. Онегу в районе г. Онеги (в последние годы - не раньше, чем с середины января), «экстремалы» могут прорваться и по автозимнику через деревню Ворзогоры, деревню Нименьгу (тоже красивые деревни - о них позже), ст. Нименьгу, а далее - на Малошуйку» [82].
Интерес также представляют статистические данные, опубликованные на портале «Onegaonline» в разделе «Деревня Малошуйка», в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [82]. Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о селе Малошуйка (Малошуйское) и о деревне Вачевская, правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 234; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о Вачевская (Малошуйка), в которой на этот момент насчитывалось 73 двора, в которых проживал 601 человек (275 - мужского и 335 - женского пола). В это же время в списках имеется упоминание о погосте Малошуйский, в котором насчитывалось 12 дворов, в которых проживало 57 человек (28 - мужского и 29 - женского пола). Наконец, имеется также упоминание о деревне Абрамовская (Малошуйка), в которой насчитывалось 47 дворов, в которых проживало 313 человек (139 - мужского и 174 - женского пола) [82; 92, с. 45].
В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о деревне Вачевская (Верховье). Количество жилых дворов в ней на данный момент составляло 137 единиц. Количество населения: мужского пола - 401, женского пола - 481 (всего 882 человека) В это же время имеется упоминание о деревне Абрамовская (Низ), в которой насчитывалось 70 дворов с населением 426 человек (193 - мужского и 233 женского пола). Деревни относились к Малошуйской волости Малошуйского сельского общества и соответственно к Малошуйскому приходу [14, с. 166-167; 82]. А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о деревне Абрамовская (с. Малошуйка). В это время в деревне насчитывалось 85 дворов, в которых проживал 442 человека обоего пола. На этот период времени имеется также упоминание о деревне Вачевская, в которой насчитывалось 160 дворов с население в 791 человек обоего пола. Причем обе деревни в это время по-прежнему относились к Малошуйской волости [82; 93, с. 15].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» имеется упоминание о селе Малошуйка (Абрамовская, Малошуйский Погост), в котором по переписи 1920 года насчитывалось 88 дворов, а количество населения: мужского пола - 106, женского пола - 233 (всего 339 человек). В это же время имеется также упоминание о селе Малошуйка (Вачевская, Верховье), в котором имелось 168 дворов, в которых проживало 617 человек (179 - мужского и 436 - женского пола) [82; 94, с. 81]. В результате укрупнения волостей в 1924 году, село Малошуйка вошло в состав Поморской волости Онежского уезда [82; 95, с. 26-27].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о деревнях Абрамовская, Вачевская 1-я и Вачевская 2-я в составе Малошуйского сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 346; 82].
Сведения о сооружениях Малошуйского погоста также содержатся в книге архитектора Ю.С. Ушакова «Ансамбль в народном зодчестве Русского Севера: Пространственная организация, композиционные приемы, восприятие» [107, с. 13, рис. 1, с. 31, рис. 2.4, с. 60-63, рис. 25].
В разделе под заголовком «Выбор места в природной среде. Группировка селений и планировочные приемы» Ю.С. Ушаков писал: «Сохранение на территории русского Севера гнездовой группировки селений представляется особенно важным для изучения народного подхода к архитектурно-пространственной организации среды обитания, так как гнездовой тип, наиболее тесно связанный с природной основой, дает нам примеры интереснейших архитектурно-природных ансамблей, ибо природное начало выбранного места диктует и своеобразие группировки (композиции) гнезд селений. Это обстоятельство позволяет детально рассмотреть взаимодействие двух тесно связанных сфер - природы и архитектуры, составляющих основу жизненной среды. Именно гнездовой форме группировки селений наиболее свойственны структурность, соподчиненность и внутренняя организованность (окол-деревня-село, подчиненные центру - погосту). Данные проведенных автором обследований решительно опровергают неоднократно высказывавшееся этнографами мнение об отсутствии какого-либо порядка в гнездовой группировке селений.
Все обследованные гнезда селений объединены каким-либо природным элементом: излучиной или устьем реки, озером или озерной группой, полуостровом, островом или группой островов. Характерные повторяющиеся особенности гнезд селений, сложившихся в различных природно-географических условиях обширной территории русского Севера, позволили автору ввести разделение гнездовой группировки на три подтипа: 1) гнезда селений при малой реке, когда селения размещены на обоих берегах реки (рис. 2, 1); 2) гнезда селений при большой реке, когда селения занимают один из берегов (рис 2,2) и 3) гнезда селений при озере или озерной группе (рис. 2, 3). И.В. Маковецкий в работе, посвященной архитектуре русского народного жилища, не соглашаясь с преобладанием гнездового типа расселения для Севера, указывает еще на один тип, характерный для приморских районов, который складывался и развивался в виде крупных промысловых и торговых сел, не имеющих непосредственно тяготеющих к ним деревень. Этот тип, действительно, более всего характерен для прибрежной зоны Беломорья. К нему можно отнести такие крупные села, как Нёнокса, Пурнема, Варзогоры, Малошуйка, Кушерека, Шуерецкое, Ковда, Варзуга. Население этих сел, расположенных вблизи устьев рек, занималось речным и морским рыбным промыслом, добычей морского зверя и солеварением. Соглашаясь с Маковецким в своеобразии причин возникновения подобного типа расселения, можно указать на то, что каждое из поименованных сел состоит все же из группы компактно расположенных деревень, и следует говорить, по сути дела, о своеобразной разновидности гнездового типа расселения - приморско-промыслового, выделив его в четвертый подтип (рис. 2, 4)» (рисунки 2.9, 2.267) [107, с. 20-21, рис. 2].
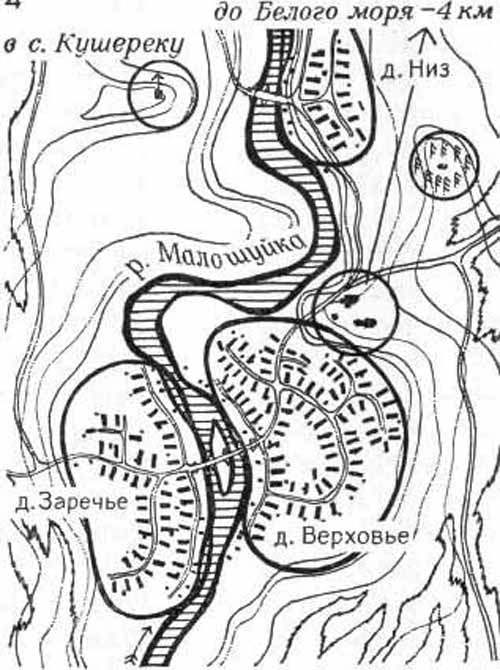
Рисунок 2.267 - Примеры основных типов гнезд селений (4 - приморско-промысловое, село Малошуйка, Онежский район Архангельской области) [107, с.21, рис. 2.4].
А в разделе под заголовком «Приемы архитектурно-пространственной организации селений и их систематизация» Ю.С. Ушаков приводит классификационную таблицу традиционных поселений, в числе которых упомянуто село Малошуйка Онежского района Архангельской области, отнесенное им к центричным с круговым восприятием, приморско-приречным населенным пунктам типа «I, A, 3, б» (рисунк 2.10, 2.13, 2.268-2.270) [107, с. 40-41, табл. 2, с. 142-143, рис. 107].
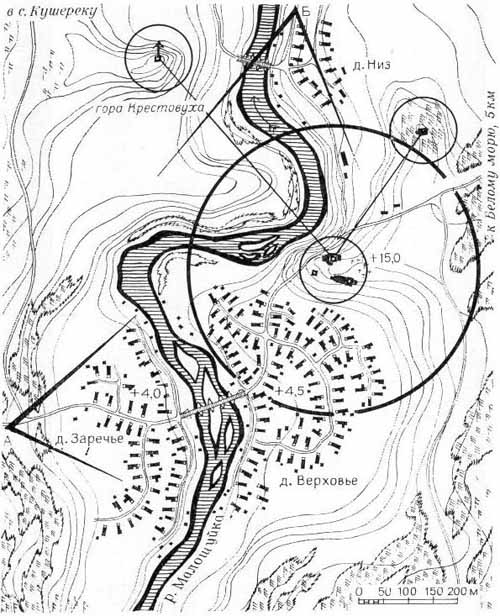
Рисунок 2.268 - Село Малошуйка (Онежский район Архангельской области). План и панорамы по А и Б [107, с.62, рис. 25].
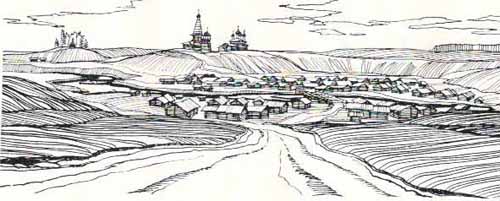
Рисунок 2.269 - Село Малошуйка (Онежский район Архангельской области). План и панорамы по А и Б [107, с.62, рис. 25.А].

Рисунок 2.270 - Село Малошуйка (Онежский район Архангельской области). План и панорамы по А и Б [107, с.62, рис. 25.Б].
Упоминания о церквях Малошуйского прихода содержатся также в работе краеведа Г.Б. Дерягина «Окрестности Онеги», опубликованной на сайте «Sudmed-nsmu.narod.ru» [25]. В разделе «Приходы в морской части Онежского района» он писал, что «Малошуйский приход находится на Онего-Кемском почтовом тракте, возле устья реки Малошуйка, впадающей в Белое море. Основан в XVI веке. Объединяет две деревни: Вачевская и Абрамовская. На 1 января 1895 г. населения было 1192 человека. До XVII века был в ведении Кожозерского монастыря и назывался Шуйской монастырской волостью. В деревне Абрамовской в 1638 году построен летний шатровый храм Николая Чудотворца, в 1873 г. - зимний пятиглавый храм Сретения Господня. Рядом с ними в 1807 году поставлена колокольня. На кладбище стоит древняя часовня Архангела Михаила и Св. апостолов Петра и Павла» (рисунки 2.271-2.274) [25, фото].

Рисунок 2.271 - Тройник в д. Абрамовская: шатровый храм Николая Чудотворца, 1638 г., кубоватый храм Сретения Господня, 1873 г., колокольня, 1807 г. Вид с востока (фото Б.Г. Дерягина, 1980-е гг.) [25, фото].

Рисунок 2.272 - Деревня Малошуйка Онежского района Архангельской области. Храмовый комплекс. Кубоватый храм Сретения Господня, 1873 г. Северный фасад (фото Б.Г. Дерягина, 1980-е гг.) [25, фото].
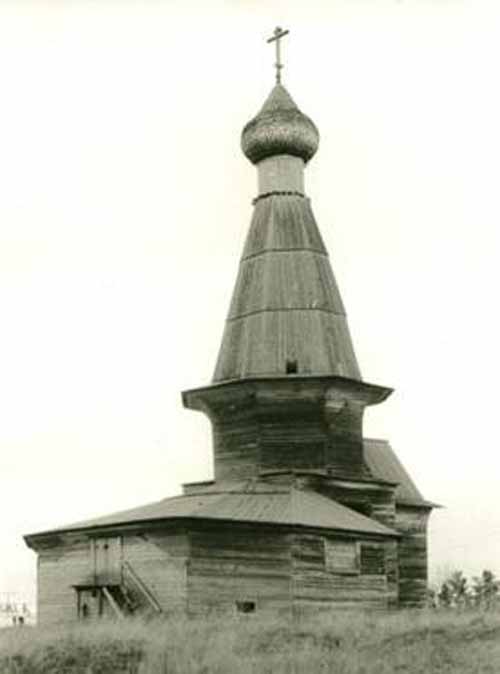
Рисунок 2.273 - Деревня Малошуйка Онежского района Архангельской области. Храмовый комплекс. Шатровый храм Николая Чудотворца, 1638 г. Вид с юго-запада (фото Б.Г. Дерягина, 1980-е гг.) [25, фото].
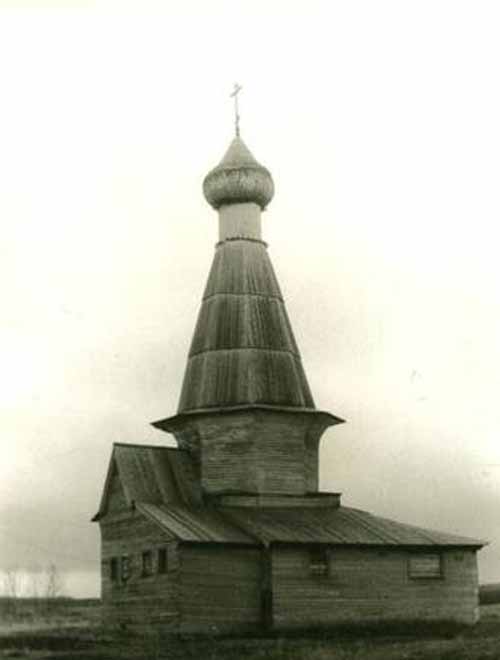
Рисунок 2.274 - Деревня Малошуйка Онежского района Архангельской области. Храмовый комплекс. Шатровый храм Николая Чудотворца, 1638 г. Вид с северо-востока (фото Б.Г. Дерягина, 1980-е г.) [25, фото].
Упоминание о поселении Малошуйка имеется также в статье архитектора-реставратора В.А. Крохина Возведение шатровых покрытий в деревянном зодчестве русского севера» [37]. «Однако исследования сохранившихся древних шатровых церквей в селениях: Лявля - 1589 г., Вершина - 1672 г., Пиялы - 1654 г., Патрикеевка - 1746 г., Малошуйка - 1638 г. и многих других не подтверждают положения о сплошной рубке шатров и отсутствующих или позднее выполненных потолочных перекрытиях» [37, с. 65]. Сведения о Малошуйском погосте как ансамбле из Сретенской и Никольской церквях можно также найти в монографической работе искусствоведа Т.М. Кольцовой «Иконы Северного Поонежья» [33, с. 205-207].
Сведения о деревне Малошуйка содержатся также в «Отчете о походе по Прионежью и Поморскому берегу Белого моря (Архангельская область) А. Дементева по маршруту: Оксовский (Наволок) - Ярнема, Городок (Прошково), Турчасово, Пияла, Большой Бор, Поле, Сырья, Подпорожье, г. Онега, Кий-остров, Ворзогоры - Нименьга, Малошуйка (Абрамовская) и Унежма 23 июня - 9 июля 2009 года (рисунки 2.275-2.278) [24, фото]. В составе группы были: священник С. Чураков, М. Чуракова, Т. Ярмолинская и А. Дементьев.

Рисунок 2.275 - Деревня Малошуйка (фото священника С. Чуракова и М. Чураковой, 2009 г.) [24, фото].

Рисунок 2.276 - Деревня Малошуйка (фото священника С. Чуракова и М. Чураковой, 2009 г.) [24, фото].

Рисунок 2.277 - Деревня Малошуйка (фото священника С. Чуракова и М. Чураковой, 2009 г.) [24, фото].
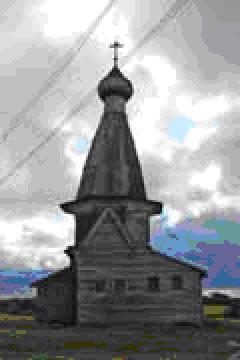
Рисунок 2.278 - Деревня Малошуйка (фото священника С. Чуракова и М. Чураковой, 2009 г.) [24, фото].
В дневнике А. Дементьева записано, что 3 июля 2009 года «до станции доехали на машине, заранее договорившись еще в Ворзогорах. Можно бы было идти пешком прямо от деревни Нименьга до Абрамовской по старому почтовому тракту 14 км. По описанию, дорога должна быть не слишком заболоченной, вдоль неё сохранились телеграфные столбы. Вообще, это очень хорошая мысль на будущее: пройти старым Поморским трактом от Онеги до Кеми. С постройкой железной дороги этот тракт был заброшен, и мало кто теперь ходит по нему. На карте тракт обозначен как «зимник», и идёт он то по лесу, то по берегу моря, соединяя все сёла Поморского берега.
18:50. Выехали на поезде в Малошуйку. Доехали на попутке до Абрамовской, посмотрели ансамбль-тройник (зачем кроют крышу синей металлочерепицей? - М.З.). Встали на стоянку за селом. Вечером шел дождь с мелким градом, собрал с тента целую горсть. Женская часть группы, видать, подустала, а тут еще и дождик объявился. Так и собрались в Москву возвращаться. Таня всё недоумевает, как она, ответственный человек, могла согласиться с нами ехать за день до отъезда, а мы ей объясняем, что во всяком событии в жизни есть смысл. «Ты же в горы собираешься после этой-то поездки?» - спрашиваем. «Не, ну это другое дело…» А я думаю, что у нас хорошее равновесие получилось: двоим идти, а двоим догонять не скучно..» [24].
Необходимо также упомянуть о сведениях, представленных на портале «Onegaonline.ru» в виде набора фотографий общего вида деревни Малошуйка и ее храмового комплекса, расположенного на правом берегу реки Малошуйки между деревнями Вачевская 2-я - Низ - Нижняя и Вачевская 1-я - Верховье и состоящего из деревянной шатровой одноглавой однопрестольной Никольской церкви (1638 г.), из деревянной пятиглавой теплой Сретенской церкви (1873 г.) и отдельно стоящей, деревянной, шатровой колокольни (1807 г.)» (рисунки 2.279-2.291) [36; 82, фото; 90].
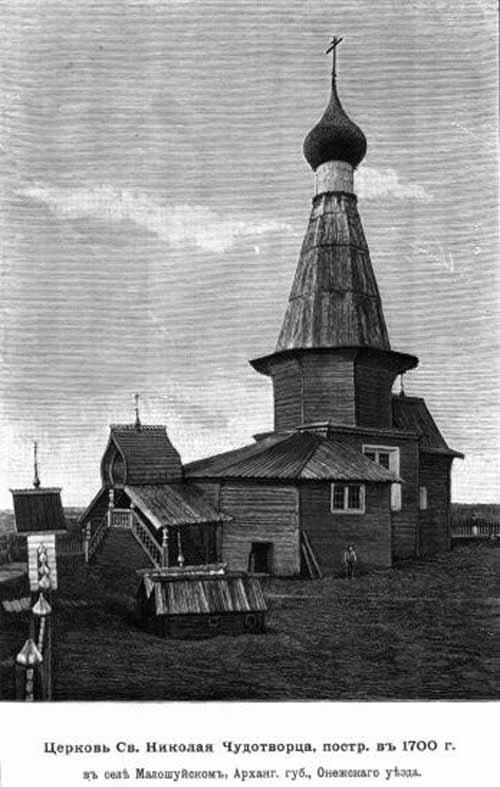
Рисунок 2.279 - Церковь Св. Николая Чудотворца, постр. в 1700 г. в селе Малошуйском, Арханг. губ., Онежского уезда (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.280 - Деревня Малошуйка Онежского района Архангельской области. Храмовый комплекс. Вид с юго-востока, от дороги на станцию Малошуйку (автор съемки неизвестен, 1988 г.) [82, фото].

Рисунок 2.281 - Деревня Низ - Малошуйка Онежского района Архангельской области. Общий вид. Река Малошуйка (автор съемки неизвестен, 1988 г.) [82, фото].
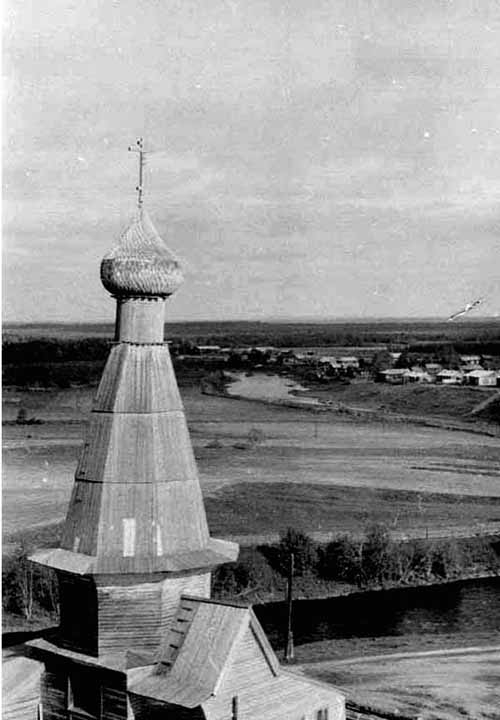
Рисунок 2.282 - Деревня Низ и река Малошуйка. Вид со Сретенской церкви на Никольскую (автор съемки неизвестен, 1988 г.) [82, фото].

Рисунок 2.283 - Деревня Низ и река Малошуйка. Вид со Сретенской церкви на Никольскую (автор съемки неизвестен, 1988 г.) [82, фото].

Рисунок 2.284 - Деревня Малошуйка Онежского района Архангельской области. Храмовый комплекс. Одноглавый шатровый Никольский храм (1638 г.), пятиглавый Сретенский храм (1873 г.) и колокольня (1807 г.). Вид с северо-запада (автор съемки неизвестен, нач. 20 века) [82, фото].

Рисунок 2.285 - Деревня Малошуйка Онежского района Архангельской области. Храмовый комплекс. Одноглавый шатровый Никольский храм (1638 г.), пятиглавый Сретенский храм (1873 г.) и колокольня (1807 г.). Вид с юго-запада (фото К. Кузьмина (Онега), 2004 год) [82, фото].

Рисунок 2.286 - Деревня Малошуйка Онежского района Архангельской области. Храмовый комплекс. Одноглавый шатровый Никольский храм (1638 г.), пятиглавый Сретенский храм (1873 г.) и колокольня (1807 г.). Вид с северо-запада (фото К. Кузьмина (Онега), 2004 год) [82, фото].

Рисунок 2.287 - Деревня Малошуйка Онежского района Архангельской области. Никольский храм (1638 г.) с колокольни. Вид с юга (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.288 - Деревня Малошуйка Онежского района Архангельской области. Сретенский храм (1873 г.), вид с северо-запада (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.289 - Деревня Малошуйка Онежского района Архангельской области. Храмовый комплекс. Сретенский храм (1853 г.) после ремонта (фото архитектора А. Барабанова (Москва), октябрь 1988 г.) [82, фото].

Рисунок 2.290 - Деревня Малошуйка Онежского района Архангельской области. Храмовый комплекс. Сретенская церковь (1853 г.). Северный фасад (фото архитектора А. Барабанова (Москва), октябрь 1988 г.) [82, фото].
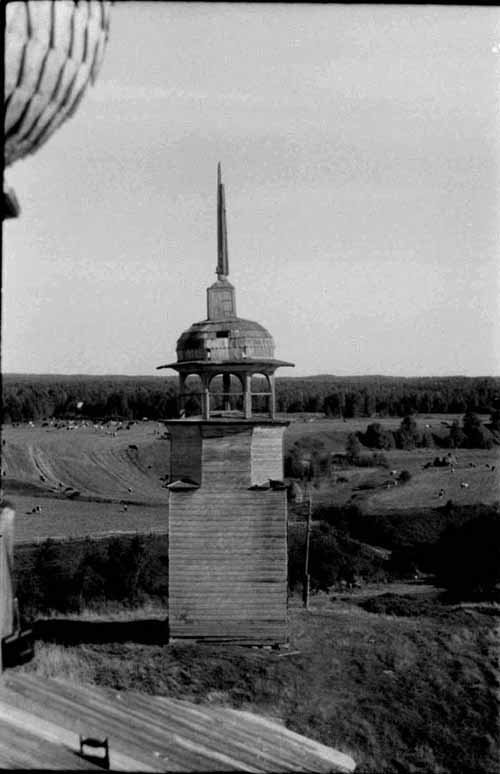
Рисунок 2.291 - Деревня Малошуйка Онежского района Архангельской области. Храмовый комплекс. Колокольня (1807 г.). Ремонтировалась в 1986 г. (автор съемки неизвестен, 1988 г.) [82, фото].
Упоминание о деревне Малошуйка содержится также в статье заслуженного архитектора России, член-корреспондента Российской Академии архитектуры В. Кибирева, Деревянное зодчество», опубликованной в сборнике «Памятники Архангельского Севера» в 1983 году [32; 68]. Характеризуя храмовое строительство и, в частности, шатровые церкви, В. Кибирев писал: «Усиление декоративных начал в архитектуре XVII в. привело к созданию нового типа церквей, в которых восьмерик с шатром был поднят на квадратный сруб, позволявший пристраивать обширные помещения трапезных. Часть храмов этого типа, получивших название «восьмерик на четверике», сохранила столпообразный характер. В числе их церковь Дмитрия Солунского (1784) в селе Верхняя Уфтюга Красноборского района, Никольские церкви в селах Пурнема (1618), Нижмозеро (1661), Малошуйка (1638) Онежского района, церковь Происхождения честных древ (1700) в деревне Филипповской Плесецкого района. Другие церкви вытянулись по горизонтали: Златоустинская (1667) в селе Саунине и Покровско-Власьевская (1743) Лядинского погоста в Каргопольском районе; Никольская (1769) в селе Конецдворье под Архангельском и того же названия (1773) в селе Кальи Внноградовского района» [32; 53; 68].
В перспективе Малошуйская групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.1.11 Мондинская ГСНМ, Чекуевская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
Мондинская групповая система населенных мест находится в южной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 53 км к югу от районного центра - города Онеги, и на расстоянии 19 км к северо-западу от деревни Анциферовский Бор - Анцифоров Бор - Ново-Анциферовская - Новоанциферовская - административного центра Чекуевской сельской администрации.
Мондинская ГСНМ расположена на левом (западном) берегу в излучине правого большого рукава реки Онеги, чуть ниже впадения в нее с востока реки Кодины и через нее проходит гужевая дорога, идущая от деревни Огрушино через деревни Медведовская, Ванево и Чеково до деревни Карамино (рисунки 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.124, 2.126, 2.292-2.294) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 43, с. 141, рис. 22.2; 46, с. 171, рис. 3б.К; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 22; 82, карты].
Мондинская групповая система населенных мест является результатом срастания деревень Воронинская - Вороницкая - Воржинское (на острове р. Онеги) - Мондина (1) и Мондино - Владыченская (2). На период полевых работ Историко-архитектурной экспедиции Петрозаводского государственного университета 1987 года в деревне Мондино (дд. Воронинская - Вороницкая - Воржинское (на острове р. Онеги) - Воронинская - Мондина и Мондино - Владыченская) насчитывалось 12 жилых дома, а 7 домов к этому времени были уже утрачены.

Рисунок 2.292 - Деревня Чековская - Чекавская - Чекуевская - Чековка - Чеково - Цеково Онежского района Архангельской области (фрагмент карты «Онежский район Северной области, масштаб 1:500000, изд. ГУГСиК, НКВД СССР, 1937 г.) [82, карта].
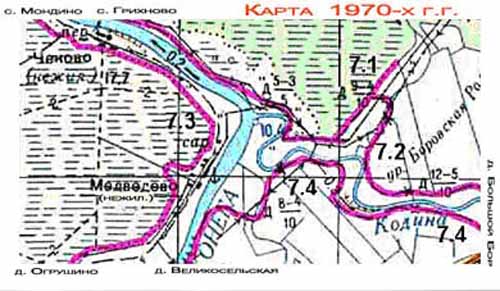
Рисунок 2.293 - Деревня Чековская - Чекавская - Чекуевская - Чековка - Чеково - Цеково Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1970-х гг.) [82, карта].
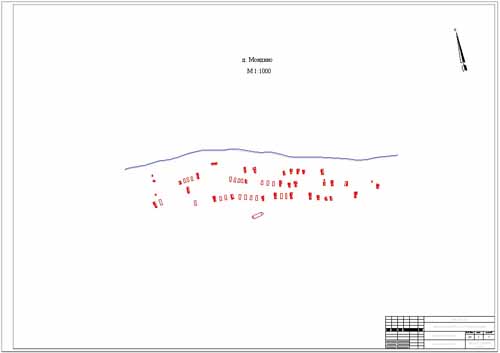
Рисунок 2.294 - Деревня Мондино (дд. Воронинская - Вороницкая - Воржинское (на острове р. Онеги) - Воронинская - Мондина и Мондино - Владыченская), Чекуевская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
По характеру акцентировки пятна застройки Мондинская ГСНМ относится к акцентированным групповым системам. О культовых сооружениях в деревне Мондино имеются следующие сведения. Троицкая церковь с тремя престолами: в честь Животворящей Троицы, Введения во храм Пресвятой Богородицы и Рождества Святого Иоанна Предтечи, построенная в 1883-1888 годах (по другим источникам - в 1888 году) [25; 33, с. 220; 82, фото]. А ранее на ее месте существовал храмовый комплекс, в состав которого входили две церкви: Введенская, возведенная в 1790 году, и Свято-Троицкая с двумя приделами - Благовещенским и в честь Рождества Иоанна Предтечи, построенная в 1798 году, сгоревшие 24 октября 1874 года. Также известно, что после пожара из деревни Огрушино Чекуевского прихода в деревню Мондино была перевезена «стоявшая с давних пор часовня», обращенная затем на время в церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и просуществовавшая до 1883 года. А уже на ее месте в 1883-1888 годах была построена новая Троицкая церковь в одной связи с колокольней с тремя престолами: главный, холодный, освященный в честь Живоначальной (Животворящей) Троицы 22 февраля 1888 года и два придельных в теплой трапезной - Введенский (Введения во храм Пресвятой Богородицы) и в честь Рождества Иоанна Предтечи (Рождества Святого Иоанна Предтечи) (рисунок 2.295) [25; 36; 82].

Рисунок 2.295 - Деревня Мондино, Троицкая церковь (1883-1888 гг.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
Дополнить приведенную выше характеристику можно сведениями из «Краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской епархии» 1896 года, согласно которому известно, что «Мондинский приход занимает северную часть довольно значительного острова, образованного Большой и Малой Онегой; кроме того, часть его расположена по правому б. Б. Онеги, близ устья р. Мудьюга. От г. Архангельска приход - в 300 верстах, от г. Онега - в 65 в-х и от ближайших приходов: Нижнемудьюжскаго-в 9 в-х, Чекуевскаго - в 18 в-х, Кожскаго - в 20 в-х. В состав пр-да входят 6 деревень, в одной из них приходской храм, три деревни на этом же острове, в расстоянии от храма от 7 до 13 верст. Остальные - за рекою Б. Онега, на материковом берегу в 6 и 7 верстах. Прихожан к 1895 г. состояло: 410 м.п. и 497 ж.п., дворов - 102.
Время образования прихода неизвестно. До построенного ныне храма в приходе было две церкви: 1). Свято-Троицкая, построенная в 1798 г., шатровая, холодная, 23 сажени высотой, 12-ти - в длину, 9-ти - в ширину; в ней было еще 2 придела: Благовещенский и в честь Рождества Иоанна Предтечи; 2). Введенская, устроенная в 1790 г., теплая, 5-главая. Оба этих храма сгорели до основания 24 октября 1874 г., после чего стоявшая с давних пор часовня, (после пожара перевезенная из д. Огрушино Чекуевского прихода - С. Головченко) была на время обращена в церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, существующую до настоящего времени (на 1895 г. - С. Головченко).
Так как эта церковь была очень маловместительна, то прихожане решили устроить новую церковь (существующую на настоящее время - на 2008 г. - С. Головченко) в одной связи с колокольней, на каменном фундаменте. Здание имеет вид «креста», высотой 11 саженей, длинной 16 саж. и шириной 7,5 саж. Снаружи обшита тесом и окрашена. В этой церкви 3 престола: главный, холодный, освященный в честь Живоначальной Троицы 22 февраля 1888 г., два придельных в теплой трапезной: Введенский и в честь Рождества Иоанна Предтечи.
Всеми принадлежностями для богослужения церковь достаточна. Кроме обычных источников содержания (кружечно-кошельковаго сбора (1894 г.-20 р. 10 к.) и свечной прибыли (39 р. 75 к.)) имеются 2 десятины сенокоса, с которых ежегодной арендной платы в 7 р. и более.
В описываемом приходе имеются 3 часовни: в д. Кирилловской (Пирзопельда) - в ч. Св. Апостолов Петра и Павла,; в д. Кондратовской (Карамино) - в ч.Св. Духа, в д. Каменное - в ч. ВЛКМ Параскевы; все они устроены местными крестьянами. Молебны в них совершаются в праздники и по требованию особых обстоятельств.
В 1889 г. открыта церковно-приходская школа, помещение наемное; учащихся в 1894-95 учебном году состояло: 29 мальчиков и 10 девочек. Законоучителем состоит местный священник бесплатно, учительницей - окончившая курс женского Епархиального училища, девица Мариамна Павловская с жалованием 120 р. в год из сумм Епархиального Училищнаго Совета.
Причт (священник и псаломщик) имеют около 30 десятин земли, состоящей из 75 мелких полос, разбросанных в разных местах между крестьянскими землями, что весьма неудобно в хозяйском отношении. Жалования от казны положено: священнику - 140 р. в год, псаломщику - 40, других доходов в год - до 100 р. Для жилья имеется 2 приходских дома.
Из бывших приход. священников известны: 1) о. Иосиф Дмитриев; 2) о. Стефан Алексеев; 3) о. Григорий Стефанович Алексеев - до 25 января 1855 г.; 4) о. Василий Рожин - до 27 мая 1871 г. Ныне священником состоит о. Иоанн Климентович Шангин, 64 лет, окончивший курс семинарии во 2-м разряде, в сане священника с 1 декабря 1855 г., в описываемом приходе с 31 мая 1891 г. и.о. псаломщика - Василий Иванович Терентьев,19 лет, уволен из 2 класса духовного училища, на службе в настоящем приходе с 11 июля 1894 г.» [36; 82].
Интерес представляют также статистические данные, опубликованные на портале «Onegaonline» в разделе «Деревня Мондино», в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [82]. Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о деревне Воронинская (Вороницкая), правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 233; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о деревне Воржинское (на острове р. Онеги), в которой на этот момент насчитывался 41 двор, в которых проживало 178 человек (75 - мужского и 103 - женского пола) [82; 92, с. 42].
В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о деревне Воронинская (Мондина). В этот период времени деревня относилось к Мардинской волости Мондинского сельского общества и соответственно к Мондинскому церковному приходу. Количество жилых дворов на данный момент составляло 70 единиц. Количество населения: мужского пола - 175, женского пола - 86. (всего 361 человек) [14, с. 170-171; 82]. А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о деревне Воронинская (Мондина). В данное время деревня относилась к Мудьюжской волости и в это время в ней насчитывалось 79 дворов, в которых проживало 388 человек обоего пола [82; 93, с. 16].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» в селе Мондино (дд. Воронинская и Владыченская). В данное время деревня относилась к Мудьюжской волости, а по переписи 1920 года в ней насчитывалось 82 двора, а количество населения: мужского пола - 124, женского пола - 186 (всего 310 человек) [82; 94, с. 83]. В результате укрупнения волостей в 1924 году село Мондино вошло в состав Чекуевской волости Мондинского сельского общества Онежского уезда [82; 95, с. 28-29].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о селе Мондино, входящем в состав Мондинского сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 345; 82].
К приведенному описанию на портале «Оnegaonline.ru» также представлен фрагмент топографической карты 1970-х годов [82, карта] и серия фотографий общего вида деревни, Троицкой церкви, ее внешнего и внутреннего убранства, а также общего вида жилых домов и хозяйственных построек (рисунки 2.296-2.304) [82, фото].

Рисунок 2.296 - Деревня Мондино (дд. Воронинская - Вороницкая - Воржинское. (на острове р. Онеги) - Воронинская - Мондина и Мондино - Владыченская). Река Онега (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.297 - Деревня Мондино (дд. Воронинская - Вороницкая - Воржинское. (на острове р. Онеги) - Воронинская - Мондина и Мондино - Владыченская). Троицкая церковь (1883-1888 гг.). Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.298 - Деревня Мондино (дд. Воронинская - Вороницкая - Воржинское. (на острове р. Онеги) - Воронинская - Мондина и Мондино - Владыченская). Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.299 - Деревня Мондино (дд. Воронинская - Вороницкая - Воржинское. (на острове р. Онеги) - Воронинская - Мондина и Мондино - Владыченская). Общий вид Дождливый вечер (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.300 - Деревня Мондино (дд. Воронинская - Вороницкая - Воржинское. (на острове р. Онеги) - Воронинская - Мондина и Мондино - Владыченская). Троицкая церковь (1883-1888 гг.). Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.301 - Деревня Мондино. Вид на деревню с колокольни (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.302 - Деревня Мондино Онежского района, Троицкая церковь (1883-1888 гг.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.303 - Деревня Мондино, Троицкая церковь (1883-1888 гг.) Вид с северо-запада (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.304 - Деревня Мондино (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
Интерес также представляют пять фотографий, выполненных А. Фоминым (Онега) в 2002 году (рисунки 2.305-2.309), и серия фотографий, снятых Н. Сидоровой (Онега) в 2006-2008 годах (рисунки 2.310-2.322), с изображением общего вида деревни Мондино, Троицкой церкви (1883-1888 гг.) и отдельных жилых домов [82, фото].

Рисунок 2.305 - Деревня Мондино Онежского района. Вид от реки на Троицкий храм (1883 г.) (фото А. Фомина (Онега), 2002 г.) [82, фото].

Рисунок 2.306 - Деревня Мондино Онежского района. Троицкий храм (1883г.) и часть деревни (фото А. Фомина (Онега), 2002 г.) [82, фото].

Рисунок 2.307 - Деревня Мондино Онежского района. Ураган пролетел (фото А. Фомина (Онега), 2002 г.) [82, фото].

Рисунок 2.308 - Деревня Мондино Онежского района. Жила большая семья (фото А. Фомина (Онега), 2002 г.) [82, фото].

Рисунок 2.309 - Деревня Мондино Онежского района. Украшенный фронтон дома (фото А. Фомина (Онега), 2002 г.) [82, фото].

Рисунок 2.310 - Деревня Мондино Онежского района. Северная часть села. Вид с колокольни в сторону д. Кирилловской (на горизонте) (фото Н. Сидоровой (Онега), 12 июня 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.311 - Деревня Мондино Онежского района. Вид с колокольни. Конец марта (фото Н. Сидоровой (Онега), 30 марта 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.312 - Деревня Мондино Онежского района. Вид с правого берега р. Бол. Онеги (фото Н. Сидоровой (Онега), 30 марта 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.313 - Деревня Мондино Онежского района. Центральная часть села. Вид с севера (фото Н. Сидоровой (Онега), 30 марта 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.314 - Деревня Мондино Онежского района. Вид с колокольни на центральную часть села. На заднем плане - Большая Онега (фото Н. Сидоровой (Онега), 30 марта 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.315 - Деревня Мондино Онежского района. Вид с колокольни на западную часть села (фото Н. Сидоровой (Онега), 30 марта 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.316 - Деревня Мондино Онежского района. Дом на северной околице. Фото с колокольни (фото Н. Сидоровой (Онега), 30 марта 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.317 - Деревня Мондино Онежского района. Троицкая церковь (1883-1888 гг.). Вид с запада (фото Н. Сидоровой (Онега), март 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.318 - Деревня Мондино Онежского района, Троицкая церковь (1883-1888 гг.). Вид с севера (фото Н. Сидоровой (Онега), 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.319 - Деревня Мондино Онежского района. Один из домов (фото Н. Сидоровой (Онега), 30 марта 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.320 - Деревня Мондино Онежского района, Троицкая церковь (1883-1888 гг.). Год прошел (фото Н. Сидоровой (Онега), сентябрь 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.321 - Деревня Мондино. Замаскировался (фото Н. Сидоровой (Онега), сентябрь 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.322 - Деревня Мондино. Пахнет жилым (фото Н. Сидоровой (Онега), сентябрь 2008 г.) [82, фото].
Характеризуя деревню Мондино, следует упомянуть о работе краеведа Г.Б. Дерягина «Окрестности Онеги», опубликованной на портале «Sudmed-nsmu.narod.ru» [25]. В своей работе ее автор писал, что «рядом с Кирилловской, на островной части левого рукава реки находится почти заброшенное село Мондино, только летом там бывает жизнь - приезжают дачники. Здесь надо сделать остановку и выйти на берег, чтобы с него полюбоваться красотой реки, а также печальным видом одинокой церкви. Мондинский приход ранее объединял 6 деревень, в которых насчитывалось 102 двора, 907 жителей. Два старых храма сгорели 24 октября 1874 года, после чего древняя, неизвестно когда поставленная часовня была переделана в церковь Благовещения Пресвятой Богородице. В 1888 году в селе Мондино местные мастера поставили собор с тремя престолами: в честь Животворящей Троицы, Введения во храм Пресвятой Богородицы, Рождества Св. Иоанна Предтечи. Он то и украшает село до сих пор. Еще в 1980-м году я видел внутри храма множество огромных икон из нижнего ряда иконостаса (потому их и не смогли растащить)» (рисунок 2.323) [25, фото].

Рисунок 2.323 - Храм в д. Мондино, 1888 г. (фото Г.Б. Дерягина, 1980 г.) [25, фото].
Интерес также представляют сведения, опубликованные на портале «Малые Острова России» в разделе «Острова деревянные» [65]. «После разделения Онеги и до впадения Мудьюги островной берег нежилой, но дома, видимо, используются рыбаками. Света у них нет. В деревне Мондино света нет, но есть два-три относительно жилых дома. Кирилловская у Шомборучья нежилая, виден сгнивший сруб и вроде целый сруб бани - возможно, охотничий домик. Октябрьская без света, но жилая. Карамино и Каменное жилые. Чижиково на слиянии Онеги жилое, Корельское тоже. Через пару километров после Корельского становится видно сотовую вышку в Пороге. Соответственно, есть связь. Церковь в Мондино: чуть не в лучшем состоянии из всех построек деревни, церковь в Каменном: скрыта зеленью, в хорошем состоянии, церковь на Жеребцовой Горе: стоит, красивая. Все фотографии: Ссылка на альбом. Зарегистрирован: 26.02.2006» [65].
Сведения о Троицкой церкви в деревне Мондино можно также найти в монографической работе искусствоведа Т.М. Кольцовой «Иконы Северного Поонежья» [33, с. 220].
Дополняя характеристику Мондинской групповой системы населенных мет необходимо упомянуть о работе архитектора П.П. Медведева под названием «Некоторые особенности объемно-планировочных структур сельских поселений Беломорского Поморья» [46]. «На основе сводной классификационной системы были проанализированы объемно-планировочные структуры 101 традиционного сельского поселения Беломорского Поморья (Мурманская область - 15; КАССР - 25; Архангельская область - 61) (рис. 2). Результаты анализа, проведенного на первом классификационном уровне (уровень типологических групп), включающем сельские поселения со свободной (01,1), замкнутой (01,2), рядовой (01,3), уличной (01,4) и смешанной (01,5) объемно-планировочной структурой, сведены в табл. 1 (прим. 10 - Здесь и в дальнейшем для обозначения типологических групп, их вариантов и подварнантов используются математические символы («индексы») кодификатора, применяемого для обработки данной информации на ЕС ЭВМ. Подробнее о системе кодификации см.: Орфинский В.П. Метод кодирования в изучении памятников деревянного зодчества русского Севера/Карельский ЦНТИ, Информ. листок № 11. - Петрозаводск, 1977)» (рисунок 2.324) [46, с. 158-159, с. 169, рис. 2].
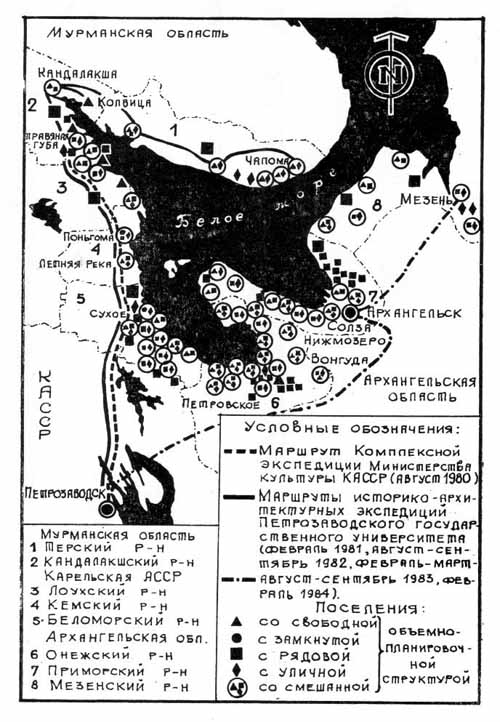
Рисунок 2.324 - Карта-схема территории Беломорского Поморья (административное деление, маршруты экспедиций, обследованные традиционные сельские поселения) [46, с. 169, рис. 2].
«Менее распространенными на исследуемой территории оказались поселения с рядовой, ориентированной «на лето» объемно-планировочной структурой, расположенные обычно вдали от водоемов, на «сельгах» (возвышенностях) (прим. 20 - Географы и историки зачастую именуют такие деревни селениями «при колодцах»). Нередко подобная планировочная структура возникает и в прибрежных деревнях, когда при определенных топографических условиях местности, во избежание неблагоприятной ориентации жилых помещений на северную часть горизонта, фасады крестьянских домов оказываются направленными в сторону, противоположную от водоема. В виде примера к первому случаю можно привести село Вонгуду (Онежский район Архангельской области). Второй случай иллюстрирует деревня Мондино того же района, расположенная на южном берегу в излучине реки Онеги (рис. За, б)» (рисунок 2.325) [46, с. 171, рис. 3б].

Рисунок 2.325 - Схема объемно-планировочных сельских поселений Беломорского Поморья (И-М). И - деревня Нижмозеро (Онежский район Архангельской области); К - деревня Мондино (Онежский район Архангельской области); Л - деревня Летняя Река (Кемский район КАССР); М - деревня Сухое (Беломорский район КАССР) [46, с. 171, рис. 3б].
В перспективе Мондинская групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.1.12 Нименьгская ГСНМ, Нименьгская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область.
Нименьгская групповая система населенных мест находится в северной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 65 км к юго-западу от районного центра - города Онеги и на расстоянии 8 км к северо-востоку от поселка Нименьга - административного центра Нименьгской поселковой администрации.
Нименьгская ГСНМ расположена по обоим берегам реки Нименьги, впадающей с юга в Белое море, и представляет собой групповую систему населенных мест, состоящую из восьми деревень, в числе которых ранее значились: Никитинская - Верховье (1), Выползово - Винокзово - Островская (2), Старый Посад - Юрьевская (3), Новый Посад (4), Бокино - Анциферовская (5), Верещагино - Харловская (6), Судаково - Осташевская (7) и Деминская - Низ (8) (рисунки 2.1, 2.30, 2.79, 2.151, 2.326-2.327) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 44, с. 27, 162, прим. 27; 43, с. 127, рис. 16.1; 47, с.146-149, рис.2.1; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 22; 82, карты и фото; 107, с. 13, рис. 1].
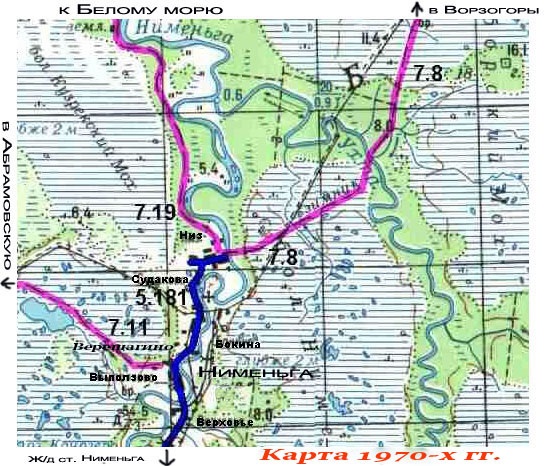
Рисунок 2.326 - Деревня Нименьга - Нименга - Нименьгское Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1970-х гг.) [82, карта].

Рисунок 2.327 - Храмовый комплекс поморского села Нименьга - Нименга - Нименьгское Онежского района Архангельской области. Вид с северо-запада (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
На период полевых работ Историко-архитектурной экспедиции Петрозаводского государственного университета 1987 года в деревне Никитинская - Верховье существовало 7 жилых домов, в деревне Выползово - Винокзово - Островская - 4 жилых дома, в деревне Старый Посад - Юрьевская - 2 жилых дома, в деревне Новый Посад - 8 жилых домов, в деревне Бокино - Анциферовская - 11 жилых домов, в деревне Верещагино - Харловская – 2 жилых дома, в деревне Судаково - Осташевская - 3 жилых дома, а в деревне Деминская - Низ - 11 жилых домов. В итоге на период 1987 года в деревне Нименьга - Нименга - Нименьгское насчитывалось 58 жилых домов (рисунок 2.328).
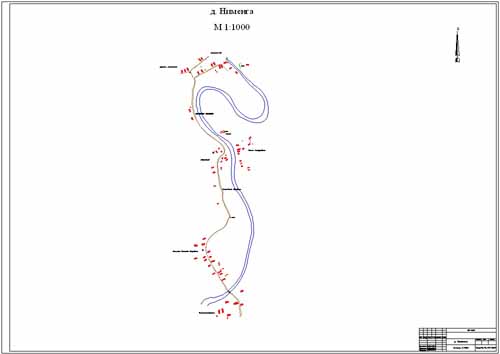
Рисунок 2.328 - Деревня Нименьга - Нименга - Нименьгское. Нименьгская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область.
Архитектурно-типологическое описание планировки и застройки Нименьгской ГСНМ, содержащееся в формуле «К1/3(3)(01.8->01.1), ПК1/1, Т1/1, ПТ1, В4/_(1):[В2/1(1)+В3/1(1)], ПВ5:[ПВ4/3(3)(01.2)(02.3)(03.2)(04.1)->ПВ3/2(1)(01.1)(02.1)], Р1» приведено в приложении А и в таблице Б.1.
Дополняя выше приведенную характеристику Нименьгской групповой системы населенных мест следует, также упомянуть о сведениях из «Краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской епархии». 1896 года, согласно которым становится известно, что Нименьгский приход «состоит из 6 деревень, лежащих по берегам р. Нименьга и составляющих Нименьгское селение с приходским храмом; из д. Юдмозерской, с приписной в ней церковью, в 20 в. от приходского; Пневского выселка, в 50 верстах [36, с. 131-133]. Название пр-д получил от одноименной реки, протекающей в его пределах и впадающей в Онежский залив Белого моря (Нименьгская Губа). До г. Архангельска - 269 верст, до г. Онеги - 37 вёрст, до ближайших приходов: Ворзогорскаго - 14 в., Малошуйскаго - 12 в. Жителей на 1.01.1895 г.: 574 м.п. и 678 ж.п., дворов 199.
Время образования пр-да относится к 16 (?) веку. О давности его свидетельствует то, что из имеющихся в настоящее время (1896 г.) 6 антиминсов для 6-ти престолов один освящен в 1692 г. Новгородским митрополитом Иовом. Очевидно, что нынешнему Преображенскому храму, построенному в 1878 г. вместо прежняго, сгоревшего в 1875 г., предшествовал ряд храмов, история которых не представлена местным причтом.
Преображенский храм деревянный, 2 - этажный, не обшитый (на 1896 г.), с ветхой крышей, дающей течь. В нем 4 престола: в верхнем теплом этаже, один с юга, - Преображения Г-ня, другой с севера, - в ч. Рождества Иоанна Предтечи; в нижнем этаже один - в ч. Благовещения Пресвятой Б-цы, другой - в ч. Климента, папы Римскаго. Утварью и ризницей ц-вь обеспечена. Средства на ее содержание складываются из круж. - кошельк. сбора (1894 г. - 42 р.) и свечной прибыли (4 пуда). Существует в приходе с 1892 г. попечительство, имеющее в своем распоряжении на 1894 г. - 294 р.
Отдельно от ц-ви стоит колокольня, обшитая тесом. На приходском кладбище стоит деревянная 1-престольная ц-вь во имя Иоанна Златоустаго, перестроенная в 1875 г. из бывшей часовни, обшитая тесом, выкрашенная и без колокольни. В д. Юдмозеро, в 20 верстах от приходского храма, имеется ц-вь в ч. Тихвинской Иконы Б. Матери, устроенная в 1863 г. из бывшей часовни, и при ней колокольня (над папертью - С. Головченко).
В 1891 г. в приходе открыта церковноприходская школа, в которой в 1894-95 уч. г. обучалось 34 мальчика и 7 девочек. Хотя по договору с крестьянами на момент открытия школы полагалось собирать по 88 р. ежегодно, но уже в 1892 г. была получена школой только половина этой суммы, а с 1893 г. и по сей день(1895 г.) - ничего не поступило. Обучение ведут члены причта, особенно священник, бесплатно.
Причт состоит из священника и псаломщика, земли имеет ок. 7 десятин, с которой в плодородные годы получается дохода до 200 р. в год. Жалование - 210 р., другие доходы - до 200 р. в год. Для причта имеются 2 дома, устроенные в 1886 и 1889 гг. Нынешний священник (1896 г.), о. Михаил Семенович Кононов, 50 л., окончивший семинарию по 2-му разряду, в сане - с 15 авг. 1867 г., в этом приходе с 10 окт. 1890 г. Псаломщик, Михаил Андреевич Алексеевский, 42 л., окончивший духовное училище. На службе - с 1882г., в этом приходе с 15 мая 1893 г.» [36, с. 131-133].
Упоминания о церквях Нименьгского прихода содержатся также в работе краеведа Г.Б. Дерягина «Окрестности Онеги», опубликованной на сайте «Sudmed-nsmu.narod.ru» [25]. В разделе «Приходы в морской части Онежского района» он писал, что «Нименьгский приход известен с XVI века. На 1 января 1895 г. жителей 1451 в 6 деревнях. Имелись на конец XIX в. огромный Преображенский храм 1878 г., кладбищенская церковь Иоанна Златоуста, перестроена в 1875 г. из более древней часовни. В деревне Юдмозерской - церковь Тихвинской богоматери, перестроена из более древней часовни в 1863 г. С 1891 г. ЦПШ. В настоящее время сохранились Преображенская церковь 1878 г. и падающая колокольня возле нее» (рисунки 2.329-2.330) [25, фото].

Рисунок 2.329 - Храмовый комплекс поморского села Нименьга. Преображенский храм (1878 г.) и колокольни (XVII в. - ?). Вид с юго-запада (фото Б.Г. Дерягина, 1992 г.) [25, фото].
Сведения о деревне Нименьга содержатся также в «Отчете о походе по Прионежью и Поморскому берегу Белого моря (Архангельская область) А. Дементева по маршруту: Оксовский (Наволок) - Ярнема, Городок (Прошково), Турчасово, Пияла, Большой Бор, Поле, Сырья, Подпорожье, г. Онега, Кий-остров, Ворзогоры - Нименьга, Малошуйка (Абрамовская) и Унежма 23 июня - 9 июля 2009 года (рисунки 2.331-2.333) [24, фото]. В составе группы были: священник С. Чураков, М. Чуракова, Т. Ярмолинская и А. Дементьев.

Рисунок 2.330 - Храмовый комплекс поморского села Нименьга. Преображенский храм (1878 г.). Вид юго-запада (фото Б.Г. Дерягина, 1992 г.) [25, фото].

Рисунок 2.331 - Деревня Нименьга (фото священника С. Чуракова и М. Чураковой, 2009 г.) [24, фото].

Рисунок 2.332 - Деревня Нименьга (фото священника С. Чуракова и М. Чураковой, 2009 г.) [24, фото].

Рисунок 2.333 - Деревня Нименьга (фото священника С. Чуракова и М. Чураковой, 2009 г.) [24, фото].
В дневнике А. Дементьева записано, что 2 июля 2009 года «23:00. Решили не ждать полудня следующего дня и пойти дальше (от Ворзогор - П.М.) в Нименьгу во время ночного отлива. На УАЗике нас подбросили 5 км в сторону Нименьги, дальше идти пешком по обнажившемуся дну моря.
Уж как пугали комарами! Говорят, морские комары особые, по размерам больше обычных, никакие хим. средства их не берут. Только нас эта напасть миновала, ни одного и не видали. Ветерок дул с моря (если б был сильнее, вода бы не отошла от берега, и пришлось бы идти по берегу через тресту), а самое главное - довольно низкая температура, так что все комары, видать, замёрзли. По куйвате идти легко, в тресте вдоль р. Нименьги был след вездехода. Так что за исключением наличия брода эта дорога не показалась нам сложнее лесной дороги между Макромусами и Ярнемой.
Нименьга. 3.07.09. 5:00. Дошли до деревни Нименьга, вброд (прямо напротив храма) переправились на правый берег речки. Заночевали в храме, поставив палатку под лестницей. Храм в честь Преображения Господня, двухэтажный, очень светлый. Местными жителями из соседнего дома используется в качестве сеновала. Колокольня сильно покосилась, но пока стоит. В нижнем ярусе укрываются козы.
Также необходимо упомянуть о сведениях, представленных на портале «Оnegaonline.ru» в разделе «Деревня Нименьга» в виде набора фотографий общего вида деревни и ее храмового комплекса, состоящего из Преображенской церкви (1878 г.) и колокольни (XIX в.) (рисунки 2.334-2.350) [82, фото].

Рисунок 2.334 - Деревня Нименьга - Нименга - Нименьгское Онежского района Архангельской области. Преображенский храм (1878 г.) и колокольня (XIX в.) (автор и дата съемки неизвестны) [82, фото].
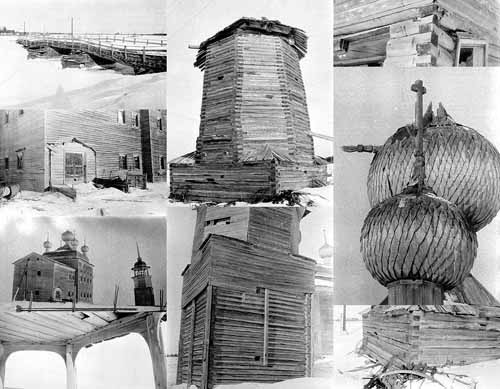
Рисунок 2.335 - Деревня Нименьга - Нименга - Нименьгское Онежского района Архангельской области. Преображенский храм (1878 г.), колокольня (XIX в.) и ветряная мельница (автор и дата съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.336 - Деревня Нименьга - Нименга - Нименьгское Онежского района Архангельской области. Общий вид храмового комплекса. Преображенский храм (1878 г.) и колокольня (XIX в.) (автор съемки неизвестен, 1992 г.) [82, фото].

Рисунок 2.337 - Деревня Нименьга - Нименга - Нименьгское Онежского района Архангельской области. Храмовый комплекс. Преображенский храм (1878 г.) и колокольня (XIX в.) (автор съемки неизвестен, 1992 г.) [82, фото].

Рисунок 2.338 - Деревня Нименьга - Нименга - Нименьгское Онежского района Архангельской области. Храмовый комплекс. Преображенский храм (1878 г.) и колокольня (XIX в.) (автор съемки неизвестен, 1992 г.) [82, фото].

Рисунок 2.339 - Деревня Нименьга - Нименга - Нименьгское Онежского района Архангельской области. Преображенский храм (1878 г.). Вид с северо-запада Фото из фондов музея г. Онеги (автор съемки неизвестен, 1985 г.) [82, фото].

Рисунок 2.340 - Деревня Нименьга - Нименга - Нименьгское Онежского района Архангельской области. Преображенский храм (1878 г.). Вид с запада. Фото из фондов музея г. Онеги (автор съемки неизвестен, 1985 г.) [82, фото].

Рисунок 2.341 - Деревня Нименьга - Нименга - Нименьгское Онежского района Архангельской области. Общий вид храмового комплекса. Преображенский храм (1878 г.) и колокольня (XIX в.). Фото ок. 1995 г. из фондов музея г. Онеги [82, фото].

Рисунок 2.342 - Деревня Нименьга - Нименга - Нименьгское Онежского района Архангельской области. Храмовый комплекс. Преображенский храм (1878 г.) и колокольня (XIX в.) (автор и дата съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.343 - Деревня Нименьга - Нименга - Нименьгское Онежского района Архангельской области. Храмовый комплекс. Преображенский храм (1878 г.) и колокольня (XIX в.) (автор и дата съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.344 - Деревня Нименьга - Нименга - Нименьгское Онежского района Архангельской области. Преображенский храм (1878 г.) (автор и дата съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.345 - Деревня Нименьга - Нименга - Нименьгское Онежского района Архангельской области. Преображенский храм (1878 г.) (автор и дата съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.346 - Деревня Нименьга - Нименга - Нименьгское Онежского района Архангельской области. Колокольня (XIX в.) [82, фото].

Рисунок 2.347 - Деревня Нименьга - Нименга - Нименьгское Онежского района Архангельской области. Колокольня (XIX в.). Общий вид с востока (автор съемки неизвестен, 1992 г.) [82, фото].

Рисунок 2.348 - Деревня Нименьга - Нименга - Нименьгское Онежского района Архангельской области. Колокольня (XIX в.) (автор и дата съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.349 - Деревня Нименьга - Нименга - Нименьгское Онежского района Архангельской области. Остов ветряной мельницы между деревнями Выползово - Винокзово - Островская и Старый Посад - Юрьевская (автор съемки неизвестен, 1992 г.) [82, фото].

Рисунок 2.350 - Деревня Нименьга - Нименга - Нименьгское Онежского района Архангельской области. Мост на ряжах между деревнями Никитинская - Верховье и Выползово - Винокзово - Островская (автор съемки неизвестен, 1992 г.) [82, фото].
Также необходимо отметить, что деревня Нименьга - Нименга - Нименьгское ранее относилась к категории акцентированных поселений, поскольку в ней существовал храмовый комплекс, первоначально состоявший из Преображенской и Спасской (Климента Ивана дня) церквей, сгоревших в 1878 году, на месте которых затем были возведены деревянная двухэтажная Преображенская церкви с четырьмя престолами (в нижнем этаже - в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и в честь Климента, папы Римского, а в верхнем теплом этаже - в честь Преображения Господня и в честь Рождества Иоанна Предтечи), построенная в 1878 году, и колокольня (XIX в.). Кроме того, согласно сведениям из «Краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской епархии». 1896 года на приходском кладбище имелась деревянная однопрестольная церковь во имя Иоанна Златоустаго, перестроенная в 1875 г. из бывшей часовни [36; 82], Также необходимо отметить, что по сведениям, полученным от местных жителей в процессе работы Историко-архитектурной экспедиции Петрозаводского государственного университета 1987 года, между деревнями Никитинская - Верховье и Выползово - Винокзово - Островская ранее существовала еще деревянная часовня Кирика и Улиты, время постройки которой осталось неизвестным. Наконец, следует обратить внимание и на ветряную мельницу, стоящую между деревнями Выползово - Винокзово - Островская и Старый Посад - Юрьевская, которая, благодаря своей высоте и размерам, также играла важную роль в композиционной организации жизненного пространства поселения.
В перспективе Нименьгская групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.1.13 Онежская ГСНМ, г. Онега, Онежский район, Архангельская область.
Онежская групповая система населенных мест находится в северной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья) и состоит из районного центра - города Онеги и прилегающих к нему деревень. В числе последних: Рочево (1), Горный (2), Рабочий поселок (3) и Шалга (4), расположенные на правом (северо-восточном) берегу реки Онеги, а также Поньга (5), Трудовая Слобода (Первомайский) (6) и Легашевская - п. Легашевская - Запань (7), находящиеся на левом (юго-западном) берегу реки Онеги (рисунки 2.1, 2.30, 2.83, 2.351-2.352) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 22; 57, карта; 82, карты].
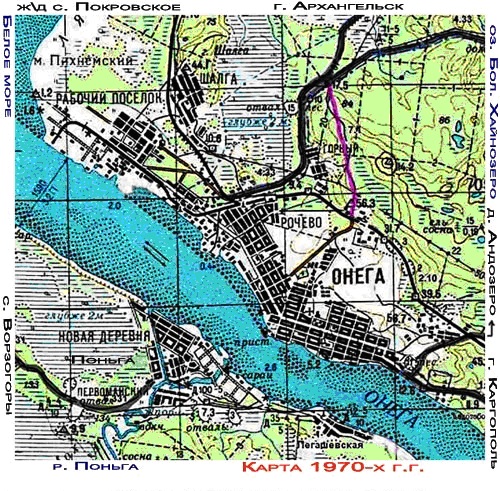
Рисунок 2.351 - Город Онега Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1970-х гг.) [82, карта].
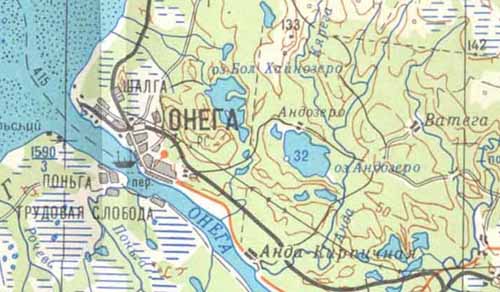
Рисунок 2.352 - Город Онега Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1991 г.) [57, карта].
Архитектурно-типологическое описание планировки и застройки Онежской ГСНМ, содержащееся в формуле «К3/1(2)(01.7), ПК3:[ПК1/1+ПК2], Т3/2(1), ПТ2, В4/_(2):[В2/1(2)+В2/2(2)+В3/1(2)+В3/2(2)], ПВ3/2(1)(01.1), Р1», приведено в приложении А и в таблице Б.1.
Дополнить характеристику Онежской ГСНМ позволяют данные, представленные на портале «Википедия - свободная энциклопедия» («Ru.wikipedia.org») [59]. «Оне?жский уе?зд - административная единица в составе Вологодского наместничества, Архангельского наместничества и Архангельской губернии, существовавшая до 1929 года. Центр - город Онега (губерния - Архангельская губерния. Центр - Онега. Образован - 1780. Площадь - 29,0 тыс. кв. км. Население - 39,3 тыс. (1897))» (рисунки 2.353-2.355) [59, рис.].

Рисунок 2.353 - Герб Архангельской губернии [59, рис.].
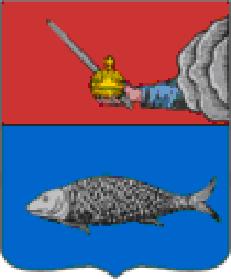
Рисунок 2.354 - Онежский уезд. Герб уездного центра [59, рис.].

Рисунок 2.355 - Онежский уезд [59, рис.].
«География. Онежский уезд прилегал к южному и восточному берегу Онежской губы, с юга граничил с Каргопольским, Пудожским и Повенецким уездами Олонецкой губернии, на востоке с Архангельским, Холмогорским и Шенкурским уездами. Уезду принадлежала часть южного берега Онежской губы, весь восточный, а также западная часть берега Двинской губы. Берега по большей части были пологи, низменны. В северной и восточной частях уезда было много отдельных холмов, по большей части обрывистых, песчаных. Почти от устья Онеги тянулись к северо-востоку и юго-востоку цепи песчаных холмов, до 80 км на северо-восток и на 30 и более на юго-восток. Песчаные холмы находились также в южной части уезда на границе с Пудожским и Каргопольским уездами Олонецкой губернии и у берегов Онежской губы. Высота холмов достигала 50-100 м. В юго-восточной части уезда по обе стороны реки Онеги встречались небольшие равнины, затопляемые весной. Почва была преимущественно болотистая, в южной части местами песчаная или глинистая. Болота встречались почти всюду, особенно в северной и западной части уезда, где в летнее время местами прекращалось, благодаря обширным болотистым пространствам, всякое сообщение. В Онежском уезде насчитывалось до 100 рек, но значительной величины из них была лишь Онега. Из 500 озер уезда наиболее значительным было Кожозеро, на границе Олонецкой губернии. Лесами была покрыта большая часть уезда; главные лесные породы - ель, сосна, берёза. Площадь уезда была равна 29 тыс. кв. км в 1897 году и 23,7 тыс. кв. км в 1926 году.
Административное деление. 20 июля 1924 года была образована Плесецкая волость. По данным на 1 января 1926 года уезд делился на 6 волостей, которые в свою очередь делились на 33 сельсовета (с/с): В числе волостей значились: Кяндская (центр - село Кянда,. 5 с/с), Онежская (центр - город - Онега,. 5 с/с), Плесецкая (центр - село Наволок, 5 с/с), Поморская (центр - село Малошуйка, 6 с/с), Турчасовская (центр - село Турчасово, 5 с/с), Чекуевская (центр - село Чекуево. 7 с/с). 4 октября 1926 года была образована Плесецкая укрупненная волость, которая перешла в Архангельский уезд».
История. Онежский уезд был образован из Турчасовского стана Каргопольского уезда, во время административной реформы Екатерины II в 1780 году, когда он был включен в состав Архангельской области Вологодского наместничества. В 1784 году Архангельская область была преобразована в самостоятельное Архангельское наместничество. Именным указом от 16 мая 1785 года из северной части Повенецкого уезда и части территории Онежского уезда Архангельского наместничества был образован Кемский уезд, вошедший в Олонецкое наместничество» (рисунки 2.356-2.357) [59, карты].

Рисунок 2.356 - Онежские земли в составе Каргопольского уезда, 1745 год [59, карта].

Рисунок 2.357 - Онежский уезд в составе Архангельского наместничества, 1792 год [59, карта].
«В 1796 году Архангельское наместничество стало именоваться Архангельской губернией. В 1897 году станция Плесецкая Наволоцкой волости Онежского уезда Архангельской губернии на узкоколейной железной дороге «Вологда-Архангельск», была включена в реестр железных дорог Российской империи. В 1929 году Архангельская губерния и все ее уезды были упразднены. Территория Онежского уезда отошла к Архангельскому округу Северного края, с образованием Онежского и Чекуевского районов.
Население. По данным переписи 1897 года в уезде проживало 39,3 тыс. чел. В том числе русские - 99,6 %. В городе Онега проживал 2541 чел. По данным переписи 1926 года в Онежском уезде (уменьшившемся к тому времени по площади до 23 651 кв. км) проживало 37,7 тыс. чел, в том числе в Онеге - 5,3 тыс. чел.» [59].
На портале «Википедия - свободная энциклопедия» («Ru.wikipedia.org») содержится также информация об Онежском муниципальном районе Архангельской области [60]. «Онежский район. Страна - Россия. Статус - Муниципальный район. Входит в Архангельскую область. Включает 8 муниципальных образований. Административный центр - город Онега. Население (2011) - 35252 чел. Площадь - 23,74 тыс. кв. км.» (рисунки 2.358-2.360) [60, рис.].

Рисунок 2.358 - Герб Онежского района [60, рис.].
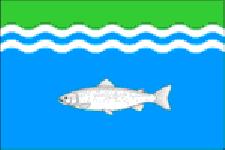
Рисунок 2.359 - Флаг Онежского района [60, рис.].
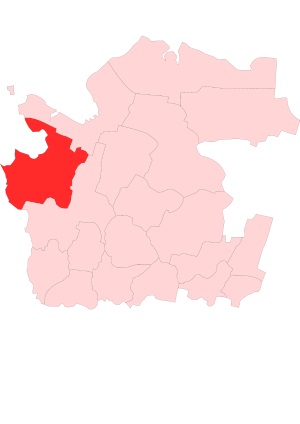
Рисунок 2.360 - Онежский муниципальный район Архангельской области [60, рис.].
Для общей характеристики Онежской групповой системы населенных мест интерес также представляют данные, опубликованные в энциклопедии Брокгауза и Эфрона [112]. «Онега - уездный город Архангельской губернии, при реке Онеге, верстах в 5 от впадения ее в Онежскую губу. Жителей к 1896 г. 2872 (мужчин 1339, женщин 1534): дворян 71, духовного звания 8, почетных граждан и купцов 142, мещан 1934, крестьян 562, прочих сословий 155. Православных 2784, раскольников 36, католиков 22, протестантов 8, евреев 8, прочих исповеданий 14. Жители занимаются земледелием, скотоводством, ловом морской, речной и озерной рыбы, работой на лесопильных заводах, торговлей (10 судохозяев имеют 12 судов для торговли с Норвегией, где выменивается рыба), судостроением (по судну в год). Своего хлеба жителям хватает лишь на несколько месяцев. Ввоз в 1896 г. 55269 руб., вывоз 627524 руб. (лесной товар). С 1896 г. О. в течение навигации еженедельно посещается товаропассажирскими пароходами; вследствие мелководья, они вынуждены останавливаться далеко от берега. Больница на 8 кроватей, богадельня с детским приютом, несколько школ. Доходы города в 1896 г. 8583 руб., расходы 5820 руб. в том числе на городское управление 1180 руб., на народное образование 850 руб., на врачебную часть 100 руб. Полагают, что устье реки Онеги было заселено уже в XV в. («Устьенская» или «Устьянская» волость); в конце XVI в. поселение, с церковью, несомненно, здесь существовало. В 1780 г. оно переименовано в уездный город Архангельской области (в 1799 г. - губернии).
Онежский уезд Архангельской губернии прилегает к южному и восточному берегу О. губы; с юга граничит с Олонецкой губернией. Поверхность уезда по Стрельбицкому - 25402,9 кв. версты, в том числе под озерами 286,7 кв. верст - О. уезду принадлежит часть южного берега О. губы, весь восточный, а также западная часть берега Двинской губы. Берега по большей части пологи, низменны; крутые сравнительно редки. В северной и восточной частях уезда много отдельных холмов, по большей части обрывистых, песчаных. Почти от устья реки Онеги тянутся к северо-востоку и юго-востоку цепи песчаных холмов, до 75 верст на северо-восток и на 30 и более на юго-восток. Песчаные холмы находятся также в южной части уезда на границе с Пудожским и Каргопольским уездами Олонецкой губернии и у берегов О. губы. Высота холмов достигает 140-350 футов. В юго-восточной части уезда по обе стороны реки Онеги встречаются небольшие равнины, затопляемые весной. Почва преимущественно болотистая, в южной части местами песчаная или глинистая. Болота встречаются почти всюду, особенно в северной и западной части уезда, где в летнее время местами прекращается, благодаря обширным болотистым пространствам, всякое сообщение. В О. уезде насчитывается до 100 рек, но значительной величины из них - лишь Онега (см.). Из 500 озер уезда наиболее значительное Кожеозеро, на границе Олонецкой губернии. Лесами покрыта большая часть уезда; главные лесные породы - ель, сосна, береза.
Жителей к 1896 г. было (не считая города) 38996 (19207 мужчин и 19789 женщин): дворян 14, духовного звания 337, почетных граждан и купцов 134, мещан 31, крестьян 35829, военного сословия 255 5, прочих сословий 96. Православных 38442, раскольников 411, римско-католиков 12, евреев 11, прочих исповеданий 120. Население уезда почти исключительно русское.
Жители занимаются земледелием, скотоводством, лесным промыслом, рыбными промыслами местными и мурманским, морским звериным промыслом, лесной охотой, торговлей, работой на лесопильных и иных заводах, извозом, судостроением и, особенно в южной части уезда, отхожими промыслами (преимущественно в Петербурге). Земледелие развито довольно слабо, но повсеместно. В среднем ежегодно засевается: рожью 1725 десятин, овсом 72, ячменем 5500, горохом 32, картофелем 270, льном 30 и коноплей 32 десятины. Средний годовой сбор ржи 45500 пудов, овса 2850, ячменя 165900, гороха 2000, картофеля 75050, льняного семени 1000 и волокна 950 пудов, конопляного семени 1150 пудов и волокна 1100 пудов. Сена в 1896 г. собрано 1633010 пудов. К 1 января 1897 г. в уезде было лошадей 6247, рогатого скота 12923 головы, овец 18627. Особенностью мурманского промысла жителей О. уезда является значительный процент так называемых пайщиков - самостоятельных мелких ловцов, образующих маленькие артели. По данным 1895 г. число «пайщиков» составляло почти 32 % всего числа лиц, участвовавших в мурманском промысле, а число покрученников, вместе с зуйками (см. Кола и Кольский уезд и Кемский уезд) - 41 %. В прибрежном (местном) рыболовстве на первом месте стоит улов сельди, могущий достигать 24000 пудов (обыкновенно он значительно меньше), на втором - лов наваги (до 6 тыс. пудов), на третьем - лов семги, речной и морской. Ловля речной и озерной рыбы производится преимущественно для собственного употребления. Всего на местных рыбных промыслах О. уезда было добыто рыбы: в 1893 г. - 13585 пудов, на 32645 руб., в 1894 г. - 24690 пудов, на 56658 руб., в 1896 г. - 8983 пуда, на 39029 руб.
В 1896 г. в уезде были следующие заводы и кустарные заведения: 8 кожевенных pаводов, 11 рабочих, сумма производства - 1310; 14 овчинных заводов, 14 рабочих, сумма производства - 880; 3 лесопильных завода, 550 рабочих, сумма производства - 367124; 170 мукомольных мельниц, 182 рабочих, сумма производства - 48558; 56 слесарно-кузнечных заводов, 63 рабочих, сумма производства - 3600; 8 кирпичных заводов, 12 рабочих, сумма производства - 380; 2. красильных завода, 2 рабочих, сумма производства - 400; 1 сажекоптильный завод, 1 рабочий, сумма производства - 50. Судостроение ничтожно. В 1896 г. парусный флот О. уезда состоял из 51 судна, грузовместимостью от 16 до 120 тонн. Книпович» [112].
Для характеристики Онежской ГСНМ интерес также представляют данные, опубликованные на портале «Онежский район Архангельской области» [60]. Оне?жский райо?н - муниципальное образование в составе Архангельской области Российской Федерации. Административный центр - город Онега.
География. Онежский район находится в северо-западной части Архангельской области, занимая южную часть побережья Онежской губы Белого моря. На северо-востоке район граничит с Приморским районом, на юге и юго-востоке с Плесецким районом, на западе с республикой Карелия. Большинство рек района (Онега и др.) относится к бассейну Северного Ледовитого океана, а Илекса с притоками - к бассейну Атлантического океана. В юго-западной части района находится Водлозерский национальный парк, в южной - Кожозерский заказник.
История. Район образован в июле 1929 года из Кяндской волости, Онежской волости и Поморской волости Онежского уезда, ликвидированного 14 января 1929 года. С января 1929 по июль 1930 года территория района входила в состав Архангельского округа Северного края. В 1931 году к 19 сельсоветам Онежского района присоединили 11 сельсоветов упраздненного Чекуевского района.
17 декабря 1940 года из части территорий Онежского (побережье Белого моря от Тамицы до Пушлахты) и Приморского районов образован Беломорский район. 30 сентября 1958 года Беломорский район был упразднён, территории Кяндского, Лямецкого, Нижмозерского, Пурнемского и Тамицкого сельсоветов вернулись в Онежский район.
1 февраля 1963 года Онежский район был упразднен. Мудьюжский, Прилукский, Усть-Кожский, Хачельский и Чекуевский сельсоветы вошли в состав Плесецкого сельского района. Кодино, Малошуйка и Мудьюга - в состав Плесецкого промышленного района. 12 января 1965 года Онежский район был восстановлен. Рабочие посёлки Кодино, Малошуйка и Мудьюга и сельсоветы: Мудьюжский, Посадный, Прилукский, Усть-Кожский, Хачельский и Чекуевский, вошли в состав вновь образованного района.
Решением облисполкома от 12.09.1979 года в состав Плесецкого района включён Ярнемский сельсовет Онежского района. В 1992 году в Онежском районе было 94 сельских населённых пункта, три рабочих поселка: Кодино, Малошуйка, Мудьюга, которые располагались на территории одиннадцати сельских советов: Верхнеозерского, Кокоринского, Нименьгского, Посадного, Прилукского, Пурнемского, Сулозерского, Тамицкого, Усть-Кожского, Хачельского и Чекуевского.
В 2006 году был образован Онежский муниципальный район, в составе которого были созданы восемь поселений. 18 февраля 2010 года решением 7 сессии Собрания депутатов четвертого созыва № 28 утвержден герб Онежского района.
Демография. На 1 января 2011 года в районе было 35252 человека, в том числе 21321 чел. в Онеге и 13931 чел. в районе[3]. По переписи 2010 года в районе было 37202 чел., в том числе 22195 человек в Онеге и 15007 человек в районе. В 2006 году в районе проживало 38586 чел., в том числе в районе - 15870 человек: Малошуйский поселковый совет (3286 человек), Золотухское МО (Сулозерский с/с, 1190 чел.), Нименьгское МО (Нименьгский сельсовет, 1514 чел.), Кодинское МО (Кодинский и Мудьюжский сельсоветы, 3094 чел.), Порожское МО (Кокоринский и Усть-Кожский с/с, 1551 чел.), Покровское МО (Верхнеозерский, Тамицкий и Пурнемский с/с, 2479 чел.), Чекуевское МО (Посадный, Прилукский, Хачельский и Чекуевский с/с, 3299 человек) и в МО «Онежское» (г. Онега) - 22716 человек.
Муниципальные образования. В состав района входят 2 городских и 6 сельских поселений. Городские поселения: муниципальное образование «Малошуйское» - пгт. Малошуйка; муниципальное образование «Онежское» - г. Онега. Сельские поселения: муниципальное образование «Золотухское» - п. Золотуха; муниципальное образование «Кодинское» - п. Кодино; муниципальное образование «Нименьгское» - п. Нименьга; муниципальное образование «Покровское» - с. Покровское; муниципальное образование «Порожское» - с. Порог; муниципальное образование «Чекуевское» - д. Анциферовский Бор.
Герб Онежского муниципального района. Согласно решению собрания депутатов № 28 от 18.02.10 «О гербе Онежского муниципального района», муниципальный герб имеет следующее геральдическое описание: «В лазоревом поле под зеленой волнистой главой, имеющей дважды просеченную серебряно-лазорево-серебряную широкую кайму - сёмга того же металла в пояс».
Символика муниципального герба обосновывается таким образом: «Сёмга указывает на то, что промысел сёмги занимал важное место в экономике района, и подчеркивает непрерывную связь многих поколений онежан. Волнистые серебряные пояса и голубое поле символизируют важность водных ресурсов - реки Онеги и Белого моря в жизни района. Зеленый цвет - символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста аллегорически показывает лесные массивы, расположенные на территории района и ставшие основой лесной и деревообрабатывающей отраслей промышленности. Серебро - символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. Голубой цвет - символ чести, благородства, духовности; бескрайнего неба и водных просторов».
Флаг Онежского муниципального района. Согласно решению собрания депутатов № 29 от 18.02.10 «О флаге Онежского муниципального района», флаг представляет собой «прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из пяти горизонтальных полос, разделенных волнистыми линиями: зеленой, белой, голубой, белой и голубой (габаритная ширина крайних полос: верхней - 1/5, нижней - 2/3 ширины полотнища; ширина каждой узкой полосы - 1/20 ширины полотнища». «Флаг разработан на основе герба Онежского муниципального района»» [60].
Дополнительные сведения о городе Онега содержатся, в частности, на портале «Православные святыни и святые в истории Архангельского Севера» (адрес - http://projects.pomorsu.ru/pss/chapters/chapter1/1.10.shtml) в разделе «Северные селения, посады и города» [73].
«Онега - город в устье реки Онеги. Город Онега, расположенный в устье реки Онеги, был учрежден в качестве уездного центра указом Екатерины II от 25 января 1780 г. Однако русские люди пришли сюда очень рано. Поморские селение Усть-Онег (или просто Устьянское) было впервые упомянуто в Уставе новгородского князя Святослава Ольговича в 1137 г. На карте «Земля Новгородская» (XII-XIII вв.) поселение обозначено как «Погост на море».
В середине XVIII в. здесь находился центр поморских промыслов. Издавна по берегам Онежского залива Белого моря располагались многочисленные деревни и волости: по Лямицкому берегу - Золотица, Лямца, Пурнема, Нижмозеро, Кянда, Тамица, Покровское; по Поморскому берегу - Ворзогоры, Нименьга, Малошуйка (Вачевская), Кушерека, Унежма; вверх по течению реки Онеги - Подпорожская, Кокоринская, Мардинская, Посадская, Кирилловская, Савинская, Наволоцкая, Калгачинская волость и т.д.
В уездном городе Онеге в 1781 г. жило 1173 человека, в 1897 г. - 25900 человек (в 1997 столько же). Жители г. Онеги занимались в основном заготовкой и распиловкой леса, рыбным и зверобойным промыслами, торговлей. Здесь возникла Онежская «привилегия» на заведение лесопильных заводов и иностранной торговлей лесом. Первая монополия была дана Екатериной II графу П.И. Шувалову (1752-1755 гг.), перепродавшему «привилегию» английскому купцу Джингли Гому. Иностранный предприниматель развернул здесь в 1756-1783 гг. хищническое истребление онежских лесов. В 1783-1833 гг. лесной торг осуществляла казна. В 1833-1864 гг. все казенные лесные предприятия оказались в аренде иностранцев - Кларка, Моргана, Джеллибрандта и др., объединившихся в «Компанию Онежского лесного торга». Ежегодно компаньоны вырубали по 180-200 тысяч бревен и вывозили за границу по 600-700 тысяч досок (вплоть до 1917 г.).
В Онежский уезд Архангельской губернии входили 20 волостей. После ряда позднейших территориально-административных преобразований на карте Архангельской области появился Онежский район (с 1937 г.).
Крупнейшим лесопильным предприятием города Онеги еще до революции стал Онежский завод, основанный в 1911 г. уроженцами Норвегии Турхефом Бакке и Иенсеном Вигом. Вместе с К. Вагером концессионеры приобрели еще один лесозавод. В 1913 г. они организовали две фирмы - «Бакке и Виг» и «Бакке и Вагер», занявшиеся лесопилением и продажей леса за границу. Обе фирмы сотрудничали с английской компанией «Фой Морган и К0». В первые годы Советской власти заводы иностранных лесопромышленников были национализированы. В 1932 г. был построен лесозавод №33. В августе 1957 г. образован Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат в составе заводов №32, 33 и 34 и с 1957 г. - гидролизного завода (с 1993 г. - акционерное общество открытого типа, без гидролизного завода).
В городе Онеге с давних времен сооружали деревянные храмы. После пожара 1785 г. все они сгорели, а на их месте были воздвигнуты две каменные церкви. Здания эти сохранились до сих пор, правда в перестроенном виде. Одно из них находилось на старом кладбище, а в центре города возвышался белокаменный Свято-Троицкий собор, построенный как «символ торжества и укрепления Российской империи в Онежских землях». Добрую славу о себе оставил настоятель Собора протоиерей Федор Дмитриевич Кононов (1834-1909). В окрестностях города Онеги, на острове Кий, расположен ансамбль Крестного монастыря, основанного патриархом Никоном в 1656 г.» [31; 40; 41; 73; 87].
На этом же портале содержатся данные о культовых сооружениях города Онеги [73]. «Собор Троицы Живоначальной в Онеге. Учетная карточка. Название - Собор Троицы Живоначальной в Онеге. Обиходные названия - Троицкий собор; Святотроицкий собор; Свято-Троицкий собор.
Тип постройки - церковь. Дата основания - не позже кон. XVI в. Дата постройки последнего здания - 1780-е - 1814. Историческое исповедание - Православный. Современная принадлежность - РПЦ МП. Статус - действ. Адрес на 1917 г. - Архангельская губ., г. Онега, Соборная пл. Современный адрес - Архангельская обл., г. Онега, просп. Кирова, 110.
Краткое описание. Кирпичный двухэтажный городской собор, построенный на средства горожан. Заложен в 1780-х, окончен в 1814, венчания перестроены после пожара в 1850-х. Одноглавый четверик с небольшой трапезной и колокольней. Внизу тёплый Михаило-Архангельский храм с Никольским приделом (1837), вверху холодный Троицкий. Закрыт не позже 1930-х, венчания сломаны. Во 2-й пол. ХХ в. занят музеем. В 2004 (по другим данным в 2000) возвращён верующим, в сер. 2000-х восстановлена колокольня. Дата обновления карточки - 14 апреля 2010 года. Составитель - Бокарёв Александр» (рисунки 2.361-2.363) [73].

Рисунок 2.361 - Троицкий собор в Онеге Архангельской области (фото В. Кудрявцева, 18 августа 2009 г.) [73, фото].

Рисунок 2.362 - Троицкий собор в Онеге, вид на алтарную часть. Архангельская область (фото В. Кудрявцева, 18 августа 2009 г.) [73, фото].

Рисунок 2.363 - Троицкий собор в Онеге. Архангельская область (фото В. Кудрявцева, 18 августа 2009 г.) [73, фото].
«Церковь Лазаря Праведного в Онеге. Учетная карточка. Название - Церковь Лазаря Праведного в Онеге. Обиходные названия - Лазаревская церковь; Лазаря Четверодневного церковь.
Тип постройки - церковь. Дата основания - 1788. Дата постройки последнего здания - 1884-1889. Историческое исповедание - Православная. Современная принадлежность - РПЦ МП. Статус - действ. Адрес на 1917 г. - Архангельская губ., г. Онега, кладб. Современный адрес - Архангельская обл., г. Онега, ул. Володарского, 25.
Краткое описание. Кирпичная кладбищенская церковь, построенная в 1884-1889 в стиле позднего классицизма. Односветный четверик под главкой на купольной кровле с двухъярусной колокольней под шпилем. Не закрывалась, единственная в Онежском районе, в наши дни обычно заперта. Дата обновления карточки - 14 апреля 2010 года. Составитель - Бокарёв Александр» (рисунки 2.364-2.367) [73].

Рисунок 2.364 - Церковь Лазаря Праведного в Онеге. Архангельская область (фото В. Кудрявцева, 18 августа 2009 г.) [73, фото].

Рисунок 2.365 - Церковь Лазаря Праведного в Онеге (колокольня). Архангельская область (фото В. Кудрявцева, 18 августа 2009 г.) [73, фото].

Рисунок 2.366 - Алтарная апсида церкви Лазаря Праведного в Онеге. Архангельская область (фото В. Кудрявцева, 18 августа 2009 г.) [73, фото].

Рисунок 2.367 - Церковь Лазаря Праведного в городе Онега Онежского района Архангельской области, вид с северо-запада (фото А.И. Манина, 28 августа 2012 г.) [73, фото].
Сведения о культовых сооружениях города Онеги имеется также на портале «Народный каталог православной архитектуры. Описания и фотографии православных церквей, храмов и монастырей» [68]. «Онега. Собор Троицы Живоначальной. Свято-Троицкий собор. Собор. Действует. Престолы: Троицы Живоначальной, Николая Чудотворца, Михаила Архангела. Год постройки: между приблизительно 1785 и 1814. Адрес: Архангельская обл., г. Онега, просп. Кирова, 110. Проезд: в центре города, между 1 и 2 линиями от реки. Автор - «Uchazdneg», 10 сентября 2010 г.» [68].
«В состав прихода входили все жители города Онеги, Андозерского селения (в 12 верстах от Онеги) и рабочие на лесопильных заводах под Онегой. В 1601 г. в приходе было две церкви: Успения Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца, построенный в 1597 г. В писцовых книгах 1621 и 1622 гг. указывалось, что в Устьенской волости (названа по своему местонахождению в устье реки Онеги) было 22 крестьянских дома, 3 церковнослужительских, 6 келий, дом священника на погосте был сожжен и разорен литовцами. В 1657 г. волость, по грамоте царя Алексия Михайловича, была пожалована основанному в том же году патриархом Никоном на острове Кие Крестному монастырю. В 1683 г. был построен новый Никольский храм, в 1695 г. - соборный Успенский храм. Волость оставалась во владении монастыря до 1765 г., когда была причислена в состав Новгородской губернии, в 1776 г. переведена в состав Архангельской губернии, в 1780 г. Усть-Онежское селение переименовано в уездный город Онега. 19 июня 1827 г. оба храма сгорели от удара молнии. По сообщению онежского городничего и магистрата от 1725 г. сгоревший Успенский храм был холодным и имел два придела: Иоанно-Богословский и Ильинский. Храм был двенадцатиглавый и имел 30 углов. Никольский храм с трапезой и папертью был теплым, при нем был холодный Иоанно-Предтеченский придел.
Сгоревшие храмы были уже ветхими. Строительство каменного двухэтажного Свято-Троицкого храма и каменной колокольни началось на средства в размере 8000 руб. асс., пожалованные по указу Екатерины II от 1783 г., и на добровольные пожертвования. Строился храм очень долго. Сначала в июле 1800 г. архимандритом Крестного монастыря Никоном был освящен нижний теплый храм в честь Архангела Михаила, затем главный Свято-Троицкий храм - 17 мая 1814 г. архимандритом того же монастыря Кириллом. 2 июля 1837 г. был освящен придел в честь Николая Чудотворца в трапезной нижнего храма. Онежский собор, называвшийся до пожара Успенским, стал именоваться Свято-Троицким.
28 ноября 1848 г. во время совершения литургии в нижнем Михайло-Архангельском храме, по неизвестной причине, случился пожар в колокольне, вследствие чего все деревянное строение, как в колокольне, так и в верхнем Троицком храме сгорело, купол колокольни обвалился, колокола упали. Иконостасы и все имущество нижнего храма были спасены, в верхнем же храме все сгорело. Восстановление верхнего храма шло очень медленно, так что он вторично был освящен в 1860 г.
На городском кладбище находился каменный храм во имя св. Лазаря. Ему предшествовал одноименный деревянный храм, построенный в 1788-1791 гг., освященный в 1791 г. и сгоревший 24 мая 1884 г. На строительство каменного храма израсходовали 3000 руб. из церковной казны и 8000 руб. пожертвований. Несмотря на пожар 1886 года, когда многие лишились своих домов, горожане принимали деятельное участие в строительстве храма. Храм был освящен 10 декабря 1889 г. Часовни: одна на окраине города; другая - в д. Андозерской (в 12 верстах от собора) в честь Апостолов Петра и Павла, впоследствии была обращена в церковь.
Жертвователи: купец Павел А. Пурыгин в 1858 г. пожертвовал 1000 руб. на нужды храма, а также 750 руб. в пользу храма и 2000 руб. в пользу причта; купец Михаил А. Лыткин - по 1000 руб. в пользу храма и причта; купец Иван И. Платунов - на исправление иконостаса 800 руб. и в пользу причта 1400 руб.; Иван Л. Иванов, бывший церковным старостой, - 1000 руб. в пользу храма; купец Александр В. Корчажинский пожертвовал 1050 руб. на устройство Лазаревского храма и 750 руб. на его украшение, в 1894-1895 гг. - 360 руб. на замену старых каменных столбов в соборной ограде на новые; Иван П. Воробьев - 1050 руб. на строительство Лазаревского храма; протоиерей Иоанн Ильич Сергиев (прав. Иоанн Кронштадтский) - 1200 руб. на ремонт собора (www.isles.ru по материалам «Краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской епархии», Архангельск, 1896 г. [36]). В советское время венчания были разрушены, в здании располагался музей. Возвращен верующим в 2004 г., в 2007 г. начато восстановление» (рисунки 2.368-2.370) [68, фото].

Рисунок 2.368 - Онега. Собор Троицы Живоначальной (Свято-Троицкий). Престолы: Троицы Живоначальной, Николая Чудотворца, Михаила Архангела. Год постройки: между приблизительно 1785 и 1814 гг. Общий вид (фото А. Васендина, 4 ноября 2011 г.) [68, фото].

Рисунок 2.369 - Онега. Собор Троицы Живоначальной (Свято-Троицкий). Престолы: Троицы Живоначальной, Николая Чудотворца, Михаила Архангела. Год постройки: между приблизительно 1785 и 1814 гг. Вид с юго-запада (фото «Uchazdneg», 9 августа 2010 г.) [68, фото].

Рисунок 2.370 - Онега. Собор Троицы Живоначальной (Свято-Троицкий). Престолы: Троицы Живоначальной, Николая Чудотворца, Михаила Архангела. Год постройки: между приблизительно 1785 и 1814 гг. Вид с запада (фото «Uchazdneg», 9 августа 2010 г.) [68, фото].
«Онега. Церковь Лазаря Четверодневного. Церковь Лазаря Праведного. Церковь. Престолы: Лазаря Четверодневного. Год постройки: Между 1884 и 1889. Адрес: Архангельская обл., г. Онега, ул. Володарского, 25. Проезд: на кладбище в центре города. Автор - «Uchazdneg», 10 сентября 2010 г.» [68].
«Кроме Соборнаго храма, в г. Онеге, на кладбище, имеется каменный храм во имя Св. праведнаго Лазаря. Но ранее на месте этого каменнаго храма был деревянный храм того же святого, начатый постройкою в 1788 г. и освящённый в 1791 г. Храм этот сгорел 24 мая 1884 г. Вместо сгоревшаго деревяннаго храма жители Онеги пожелали построить каменный. На постройку его было употреблено 3000 р. из церковных сумм и 8000 р. сборных.
Не смотря на пожар, постигший город в 1886 г. и лишивший многих приюта, жители города, однако, принимали горячее и деятельное участие в этой постройке. Главными жертвователями на это святое дело были: упомянутый выше купец Александр В. Корчажинский - 1050 р. на устройство храма и 750 р. на украшение его, и Иван П. Воробьёв - 1050 р.
Кроме того, из городских сумм было выдано 1460 р. Храм этот был освящён в ч. Св. Лазаря 10 дек. 1889 г. игуменом Крестнаго м-ря Варлаамом, совместно с причтами Онежскаго собора и нескольких соседних приходов. Средствами содержания описанных двух храмов служат %% с капитала в 2400 р., свечная прибыль - до 650 р., кошельковый сбор - до 170 р. в год, и случайные пожертвования.
Причт состоит из 5 членов: протоиерея, священника, диакона и двух псаломщиков и содержится исключительно на %% с капитала в 6150 р. и доходами до 1500 р. в год. Для причта со времени пожара 1886г. имеется только один дом, в котором проживают: протоиерей, священник и один из псаломщиков; другой же псаломщик и диакон получают из церковных сумм до 4-х р. в месяц на наём квартиры, т.к. граждане отказываются давать помещение для причта, но и содержать сторожа при ц-ви (Источник: «Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии», 1896г., г. Архангельск [36])» (рисунки 2.371-2.372) [68, фото].
Дополнительные сведения из истории города Онеги можно найти также на портале «Онежский район Архангельской области» [60]. «История. О поселении в устье реки Онеги впервые упоминает устав Новгородского князя Святослава Олеговича за 1137 г. До прихода новгородцев - первых поселенцев, край был заселен угрофинскими племенами, известными в то далекое время как «чудь белоглазая». Для новгородцев главной притягательной силой была пушнина. Дремучие леса в избытке давали дичь, мех, воск, отборный строевой лес. Сюда, в устье реки Онеги, в поисках мест для хлебопашества и промыслов устремились тысячи людей. В Новгородских географических картах XII-XIII веков на месте города Онега значилось поселение «Погост на море».

Рисунок 2.371 - Онега. Церковь Лазаря Четверодневного (Лазаря Праведного), год постройки: между 1884 и 1889 гг. Южный фасад (фото «Uchazdneg», 9 августа 2010 г.) [68, фото].

Рисунок 2.372 - Онега. Церковь Лазаря Четверодневного (Лазаря Праведного), год постройки: между 1884 и 1889 гг. Вид с запада (фото А. Родионова, 7 августа 2011 г.) [68, фото].
Царский Указ Екатерины II от 19 августа 1780 г. провозгласил поселение Усть-Онега городом Онега. В 1784 г. город стал уездным центром и причислен к Архангельской губернии. В этом же 1784 г. появился первый генеральный план застройки Онеги, на котором Екатерина II собственноручно написала «Быть по сему». Именно ему город обязан поквартальной застройкой с широкими прямыми улицами и проспектами. В начале XIX века появляется новый генеральный план, по нему Онега отстраивалась после пожара в 1866 г.
В устье рек Анда и Поньга, впадающих в Онегу, возникают первые в России лесозаводы с водяными приводами, работающими на экспорт. На онежских плотбищах с незапамятных времен строились суда для архангельских, каргопольских, холмогорских купцов, Соловецкого, Николо-Карельского, Михаила-Архангельского, Пертоминского монастырей. Строились суда на Онеге и в XIX веке, но к 70-ым годам того века судостроение стало сокращаться.
В 1991 г. создан филиал национального парка «Водлозерский». Этот парк, основной задачей которого является сохранение, воспроизводство и изучение флоры и фауны, раскинулся на территории Карелии и Онежского района. Ведётся работа по созданию на территории Онежского полуострова национального парка Онежское поморье. И всё же в первую очередь Онега сильна людьми, имеющими твердый поморский характер, природную любознательность и смекалку.
Онежский район образован на территории Северного края в соответствии с Постановлением Президиума ВЦИК «О составе округов и районов Северного края и их центрах» от 15 июля 1929 года. Центром района стал самый большой населённый пункт - город Онега. В состав района вошли Кяндская, Онежская и Поморская волости. На территории площадью 13,7 тысяч квадратных километров в шестидесяти девяти населённых пунктах проживали 21,7 тысяч человек. Из них в Онеге чуть больше шести тысяч человек.
В состав района вошли девятнадцать сельских советов: Андозёрский, Вонгудский, Ворзогорский, Калгачихинский, Кокоринский, Корельский, Кушерецкий, Кяндский, Лямицкий, Малошуйский, Нижмозёрский, Нименьгский, Носовский, Подпорожский, Покровский, Пурнемский, Тамицкий, Унежемский и город Онега. 31 июля 1931 года Постановлением Президиума Севкрайисполкома в состав Онежского района были включены ещё одиннадцать сельских советов упраздненного Чекуевского района: Вазенский, Кожеозерский, Кожский, Кривопоясский, Мондинский, Мудьюжский, Польский, Прилукский, Фехталимский, Хачельский, Чекуевский. Таким образом, образовалась территория современного Онежского района.
Позже, в 1940 году, часть территории Онежского района, побережье Белого моря от деревни Тамица до Пушлахты, была передана во вновь образованный Беломорский район. Вместе с развитием лесопильного производства, на карте района проявлялись новые лесные поселки: Маложма, Малошуйка, Мудьюга, Кодино. В 1939 году на территории района площадью 22,7 тысяч квадратных километров в 180 населённых пунктах проживали 34,8 тысяч человек, из них 15,8 тысяч в Онеге.
Великая Отечественная война не прошла бесследно для района. 11917 онежан было мобилизовано райвоенкоматом за годы войны. Более трёх тысяч онежан навсегда остались на полях сражений. В 1949 году численность населения района составила 30398 человек. В результате политики советского государства, направленной на укрупнение колхозов и закрытие неперспективных деревень, обезлюдели многие деревни: Варбозеро, Калгачиха, Челозеро, Загорье, Задворок, Коркала, Луза, Носовщина, Коломинка, Юксозеро и многие другие. Люди, покидавшие деревни, селились в поселках лесозаготовителей или Онеге, и чаще всего устраивались на лесозаготовительное или лесопильное производство. В Онежском районе численность городского население значительно увеличилась.
В 1992 году в Онежском районе было 94 сельских населенных пункта, три рабочих посёлка: Кодино, Малошуйка, Мудьюга, которые располагались на территории одиннадцати сельских советов: Верхнеозерского, Кокоринского, Нименьгского, Посадного, Прилукского, Пурнемского, Сулозерского, Тамицкого, Усть-Кожского, Хачельского и Чекуевского. По данным Всероссийской переписи 2002 года, численность населения составила 40,2 тысячи человек, из них 23,5 тысячи человек проживали в Онеге.
В 2006 году был образован «Онежский муниципальный район», в состав которого вошли восемь поселений: городские «Онежское», «Малошуйское» и сельские: «Золотухское», «Кодинское», «Нименьгское», «Покровское», «Порожское», «Чекуевское».
С Северной стороны района раскинулось Белое море, сказочное море Гандвик, Студеное, - много названий у нашего «морюшка». Пожалуй, самый мелководный залив Белого моря, и поэтому самый теплый - Онежский. Песчаные пляжи, местами не тронутые цивилизацией - перспектива для развития туризма. На западе Онежский район граничит с Карелией, на востоке - с Приморским, на юго-востоке - с Плесецким районами.
Сельское хозяйство изначально было основным занятием онежан, но по мере развития лесопильного производство, уступило лидирующее место лесопилению. Сельское хозяйство наиболее развито в южной части района. В нижнем течении Онеги вдоль реки, раскинулись заливные сенокосные луга, или как их называли в старину - пожни. Именно эти луга и создали хорошую кормовую базу для продуктивного развития животноводства. В Советский период на территории сельсоветов Вазенский, Мудьюжский, Прилукский, Фехталимский, Хачельский располагались крупные совхозы «Большеборский», «Прилукский», «Чекуевский». Они давали более половины всей сельскохозяйственной продукции района: мяса, молока, зерновых, картофеля, капусты и других овощей. Более 65 % доходов колхозы и совхозы получали от животноводства. На фермах района было сосредоточено 75 % общего количества крупного рогатого скота. Со сменой политического строя реформировались и совхозы. Часть из них, лишившись государственной поддержки, прекратили своё существование, остальные реформировались в общества с ограниченной ответственностью, а позже в крестьянско-фермерские хозяйства. В 1991 году резко ухудшилось положение в агропромышленном комплексе. В 1990 году в хозяйствах района насчитывалось 11478 голов крупного рогатого скота. В 1998 году - 2243. Производство молока сократилось с 11203 до 1700 тонн. На 1 января 1990 года в районе насчитывалось 56 крестьянско-фермерских хозяйств. На сегодняшний день зарегистрировано 44 крестьянско-фермерских хозяйства. Сегодня приоритетами в развитии сельского хозяйства района являются производство молока, мяса, выращивание картофеля и других овощных культур. Онежский район обладает агроприродным потенциалом, способным обеспечить не только собственные потребности, но и осуществлять поставки сельскохозяйственной продукции за пределы района.
С середины XVIII века и по сегодняшний день ведущее место в экономике района занимает лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность. В первые годы советской власти лесозаводы были национализиро¬ваны, но начавшаяся Гражданская война остановила работу предприятий. В 1920 году, онежские лесозаводы начали распиловку круглого леса. 5 октября 1921 года к причалу Онежского лесозавода № 32 пришвартовался первый паро¬ход за пиломатериалами. В 1923 году в Онеге было образовано Российско-Норвежское предприятие «Руснорвеголес» В 1927 году Российско-Норвежская концессия была ликвидирована. В 1928 году создан государственный Онежский лесозавод № 32. В 1932 году был построен лесопильный лесозавод № 33. После пожара в 2006 году на лесозаводе № 33 была изменена технология распиловки и полностью обновлено оборудование. Сегодня ОАО «Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» поставляет на внутренний и внешний рынки щепу и пиломатериалы под торговой маркой «ONEGA», более чем в 50 стран мира.
В 1954 году был пущен в эксплуатацию «Онежский гидролизный завод», налажен выпуск этилового спирта, кормовых дрожжей.
10 января 1935 года в Онеге впервые приземлился самолет «Сталь-2». В годы Отечественной войны руками онежан производились ремонтные работы на самолётах, получивших повреждение в боях, после ремонта самолёты шли на фронт. В войну в Онеге появилась подготовленная взлётная полоса. Расчищая взлётную полосу, жители на лошадях отвозили каменные валуны к горе, образовалась целая гора камней - каменная гора. Название Каменная гора сохранилось и прижилось. Сегодня Каменная гора - пригород Онеги.
В 1957 году открыта авиалиния «Онега - Архангельск» появилось воздушное сообщение между районным и областным центрами. Позжее были открыты местные авиалинии: в Чекуево, Прилуки, Ковкулу, Ярнему, Пурнему, Золотуху. На линиях работали самолёты АН-2 и ИЛ-2. С 1991 года пассажиропоток на воздушных судах резко снизился. В 1993 году были прекращены регулярные авиаперевозки в Архангельск, гораздо раньше ушли в историю авиалинии «Онега - Чекуево - Прилуки - Ковкула - Ярнема», «Онега - Золотуха». «Онега - Пурнема» сегодня единственная авиалиния, по которой осуществляется регулярное воздушное сообщение в летнее время.
В 1939 году на Кодинском целлюлозном заводе № 2 были получены первые тонны пороховой целлюлозы. В послевоенное время завод начал выпускать и целлюлозу для производства картона. В 1989 году Кодинский завод выработал 1462 тонны целлюлозы. В 1993 году Кодинский завод был объявлен банкротом. Это было первое предприятие - банкрот в России. Около трёх тысяч человек осталось без работы.
Карьеры «Покровское» и «Золотухское» производят гранитный щебень различных фракций, дробильный песок и отсевы. ОАО «Карьер Покровское» более 30 лет занимается добычей и производством высококачественных нерудных строительных материалов, и является крупнейшим предприятием в данной отрасли в Онежском районе. ООО «Гранит Плюс» (карьер «Золотухское») сегодня находится в сложном финансовом положении. Для возобновления работы предприятия необходимы инвестиции. Продукция онежских горнодобывающих карьеров пользуется устойчивым спросом, как в Архангельской области, так и в соседних областях: Вологодской, Мурманской.
«Онега» - небольшой северный порт России, расположенный в 7 километрах от устья реки Онега. Онежский морской порт был открыт в 1781 году и считался вплоть до начала ХХ века одним из крупных портов на Северо-Западе России. Порт имеет навигацию с мая до начала ноября, в остальное время недоступен для судов. К причалам порта ведут подходные каналы и фарватеры протяженностью 12 миль. Порт может принимать суда длиной до 115 метров, с осадкой до 4,5 метров» (рисунки 2.373-2.375) [60, фото]:

Рисунок 2.373 - Город Онега [60, фото]:

Рисунок 2.374 - Город Онега [60, фото]:

Рисунок 2.375 - Город Онега [60, фото]:
Особый интерес в плане общей характеристики Онежской групповой системы населенных мест и города Онеги представляет работа краеведов Г.Б. Дерягина и Л.А. Харлина под заголовком «Старая Онега. Исторический путеводитель», написанная в феврале1991 года и отредактированная в виде электронной версии в 1993 году (адрес - http://readtiger.com/www/sudmed-nsmu.narod.ru/redion/onegaold.html) [27].
«Старая Онега. Краткая история города. Введение. Ежегодно около тысячи туристов посещают Онегу. Велик их вос¬торг перед достопримечательностями окрестностей города. В самом же городе, увы, они скучают. Разочарование исходит от незнания достаточно богатой и интересной истории города, тем более, что экскурсоводы обычно увлечены лишь одной революционной тематикой. В ходе таких экскурсий история города и нашего края освещается крайне тенденциозно и извращенно в угоду господст¬вующей коммунистической идеологии. Мы решили заполнить пробел. И вот - перед вами краткая история города, изложенная в виде пу¬теводителя для самостоятельного туриста. На страницах этого путеводителя указан весь маршрут, которым удобнее всего проследовать для знакомства с городом. При этом впервые правдиво освещается все, заслуживающее внимания.
ОНЕГА - город своеобразный и, вместе с тем, обычный - таких мещанских городов множество в России. История Онеги подобна истории большинства маленьких русских городков, а их история в своей совокупности - это история России. Лишь поняв суть малого, незначительного, на первый взгляд, явления, можно понять глобальное действо, отличить суетное от вечного.
Итак, турист, в путь! И, как всегда, сбор у гостиницы на центральной площади, известной в народе под неофициальным названием - «пяти углов». Перед началом экскурсии педантичным любителям цифр можно предложить пробежаться взглядом по следующим справкам: город Онега - районный центр областного подчинения, морской порт на Белом море, расположенный в устье реки Онеги, крупный лесопромышленный центр Архангельской области. Население района около 50 тысяч человек, в самом же городе проживает около 25 тысяч. В районе на 1990 год имелось 97 селений, 47 школ, около 6 тысяч учащихся, 27 детских садов и яслей - их посещало около 5 тысяч детей. В городе имеется одна на весь район действующая церковь Святого Лазаря. Имеется 72 культурных учреждения (дома культуры, клубы, передвижки, библиотеки). На 1990 год в четырех колхозах и в четырех совхозах содержалось всего скота около 12 тысяч голов, с полей собирается в основном картофель. (К XXI веку население района и города сократилось на несколько тысяч человек в результате естественной убыли и миграции. Из богатого промышленного центра Онега превратилась в полунищий город с большим количеством безработных).
В конце 19 века в Онежском уезде было около 40 тысяч жителей, в том числе в городе Онеге проживало менее 3 тысяч горожан. Волостей в уезде было 16, число селений - 229. В уезде было 38 приходов, которым на 1 января 1895 года принадлежало 77 храмов (без учета Крестного и Кожозерского монастырей). 11 храмов были каменными, а 66 - деревянными. В них служили 1 протоирей, 39 священников, 4 диакона и 40 псаломщиков. В самом городе было две церкви и две часовни. В уезде имелось 18 церковно-приходских школ (ЦПШ), 41 школа Министерства народного образования, в трёх приходах дети не учились за неимением школ. В самом же городе были: мореходные классы, городское трехклассное училище, два одноклассных - мужское и женское приходские училища, женское училище, ЦПШ, больница, богадельня, детский приют, три лесопильных завода, три пивоварни, коптильный, дегтярный, кирпичный, спичечный, кожевенный заводы, кузницы, мельницы, красильная овчинная изба и многие другие заведения, а также две церкви.
Посевная площадь в 1901 году в уезде составляла 5557 десятин (1 десятина = 1,09 гектара), с которых собирался урожай ржи, овса, ячменя и гороха 300585 пудов. Под картофелем было занято 313 десятин, урожая снимали с них 222324 пуда. На 1 января 1899 года в уезде было 14477 коров, 6773 лошади, 21720 овец. Практически на каждого жителя уезда приходилось по голове скота. Из них в самом городе Онеге было 300 коров, 290 лошадей, 241 овца. Немало еще будет цифр на нашем пути, поэтому, во избежание переутомления, отвлечемся от них и отправимся на рядом расположенную Погощенскую площадь (ныне площадь им. А.О. Шабалина)» (рисунок 2.376) [27, фото].

Рисунок 2.376 - Город Онега. Погощенская площадь (ныне площадь им. А.О. Шабалина) [27, фото].
«Погощенская площадь. Погощенская площадь (ныне площадь им. А.О. Шабалина) - место, с которого начиналась история города. Площадь расположена на берегу реки Онеги. С нее открывается красивый вид на устье и море. Она примечательна своей историчностью, возле нее находилось и находится много достопримечательностей, например, таких, как построенный в 1908 году, почти не ремонтированный и действующий до наших дней деревянный причал, остатки пристани Северолеса, два здания концессии Руснорвеголес и пр. На этом месте располагалась самая первая в Онеге церковь, и здесь же находилось самое первое в Онеге русское кладбище, возможно, уже с XI века. С этого исторического места открываются хорошие виды на реку Онегу, на ее устье, на перспективу набережной и двух проспектов…
Первые люди пришли на эти земли в 4-3 тысячелетиях до н.э. с юга и Волго-Окского междуречья вслед за растаявшим ледником. Расселение этих людей происходило по рекам и озерам. Поэтому самыми древними названиями в нашем крае являются названия рек и озер. На основе расшифровки географических названий Севера можно утверждать, что оставлены они финно-угорскими племенами, обитавшими здесь в разное время. Русские, обживая в дальнейшем Север, заимствовали эти названия у аборигенов, русифицировали их, добавляя к нерусской основе свои слова, например, ОЗЕРО вместо ЯВР, РЕКА вместо ЕГ, ГУБА вместо ЛАХТ и т. д. Примеры тому: Кожозеро, Солозеро, Кий-остров, Кушерека, Вей-наволок и т.д.
Во время раскопок, проводимых в разное время на Севере, найдены древние стоянки человека, датируемые тысячами лет до новой эры. На территории современного Онежского района обнаружены древние стоянки в устье реки Мудьюги, в деревне Кялованга, в селах Порог, Городок (Рогонима), Целягино, на Кий-острове и другие. На основе материалов, полученных при раскопках, ясно, что здесь в разное время обита¬ло несколько племен, главным занятием которых было рыболовство и охота. Свои орудия они изготовляли из дерева, камня и кости.
Исследователи Севера Крестинин и Карамзин утверждают, что заселение Севера русскими началось с X-XI веков. Известный путешественник Норденшельд писал, что поморы появились на крайнем Севере Европы в X-XI веках. Поморами называли потомков русских поселенцев на побережье Белого моря и в низовьях впадающих в него рек, частично Баренцева моря, так называемого Поморья. В XV-XVII веках «поморские города» составляли обширный административный район, который охватывал низовья рек Онеги, Северной Двины, Мезени, Печоры, побережье Белого моря. Коренное население этого района - так называемая ЧУДЬ БЕЛОГЛАЗАЯ: эсты, карелы, финны, лопари (саамы), коми, ненцы, к XVII веку было окончательно вытеснено с этих земель, а частично произошла ассимиляция.
Из летописных документов XII-XIII веков ясно, что Север к этому времени уже являлся колонией Новгорода Великого. Однако начали колонизацию этих земель еще жители Ладоги, которая уже в начале средних веков располагалась на перекрестке международных дорог по Волхову. Население Ладога имела полиэтническое, но в основном славянское. Славяне здесь жили бок о бок со скандинавами и финно-уграми, занимаясь ремеслами и торговлей, при этом большое внимание уделялось торговле с племенами отдаленных районов Севера из-за высокой ценности пушнины. Ладога была покорена Новгородом к концу XI века, и тогда же первая большая волна русских переселенцев-язычников пришла на Север, спасаясь от насильственного крещения, которое в то время проводилось при помощи не только креста, но и меча.
На берега Ледовитого океана новгородцы шли разными путями. Главный путь шел по рекам Волхов и Свирь в Онежское озеро, а оттуда на Север вели уже три направления. Первое направление: Онежское озеро - река Водла - Волок - Кенозеро - река Кена - река Онега. Второе направление: река Вытегра - Белое озеро - река Ухтома - Волок - река Модлона - озеро Воже - река Свидь - озеро Лача - река Онега. Третье направление: Онежское озеро - река Выг - Белое море.
Достигнув Белого моря, новгородцы на своих ушкуях (больших плоскодонных лодках с парусом и веслами) пускались в отчаянные плавания по его просторам. Целью этих плаваний было освоение территорий, присоединение их к Великому Новгороду. Однако ушкуи не удовлетворяли требованиям плаваний по морю, поэтому первые поселенцы сразу же вынуждены были строить суда, обладающие мореходными качествами (устойчивость на волне, грузоподъемность, прочность при плавании во льдах и т.п.). Поморы являются зачинателями и хранителями мореходства на Севере. Во все свои походы новгородские воеводы с XI-XII веков брали с собой священников, чтобы строить церкви в завоеванных местностях в знак своего владычества и для обращения язычников в христианство.
О существовании поселения на месте города Онеги сообщается в древних новгородских документах как о «Погосте на море». Слово ПОГОСТ происходит от древнего русского ГОСТЬ, ГОСТИТЬ. О погостах упоминается еще в летописи 947 года. Там написано, что княгиня Ольга устроила первые погосты в Новгороде. Позже, когда Новгород обрел самостоятельность, и владения его расширились, они стали делиться на пятины (пять частей), каждая пятина делилась на половины, половины же на погосты.
Новгородцы принесли с собой на Север уклад своей жизни, обычаи, предметы культуры. Вдоль берегов рек появились разного рода поселения: погосты, починки, деревни, наволоки, рядки, станы, посады, волости, волостки. Первым пунктом считался погост - место сбора налогов и дани, обмена продуктов и разных товаров, место обсуждения общих дел. Здесь делались объявления и распоряжения властей, проводились общие собрания. Местом собраний в те времена была церковная трапезная. Вот почему трапезная зачастую по размерам больше самого храма. Около церкви строились богадельни, кельи для нищих, дворы священнослужителей, а также мирян. Недалеко от погостов возникали крестьянские поселения. Так и в Усть-Онежском погосте была своя деревня, а за ней располагались остальные.
Вторая большая волна переселенцев пришла на Онегу в XIII веке, спасаясь от грозного нашествия Батыя. Именно в те времена вдоль берегов реки возникли тысячи деревенек. Устье Онеги было удобным для поселения местом. Впервые о поселении в устье реки Онеги упоминает Устав Святослава Ольговича за 1137 год. На карте «Земля Новгородская XII-XIII веков» поселение в устье Онеги значится под названием «Погост на море». В XV веке московский князь Василий Тёмный, перечисляя двинские угодья на Севере, упоминает поселение Усть-Онега. В Сотной книге на Турчасовский стан 1556 года сказано: «На усть Онеги у Пречистенькой волостка Усть-Онежская, а в ней деревни тяглые». Далее упоминаются деревни Кишутинская, Даниловская и Мининская. И о том погосте писано: «В той же волостке на усть Онеги реки погост, а в нем церковь Успене пречистые да другая теплая церковь Никола Чудотворец. А в них поп чорной Кирил да дяк церковной Родька Ортемев, да пономарь старец Мисаило. К тому же погосту деревня церковная. Пашни обжа, пашут ее с погоста поп..., Тое же деревни угодия за Онегою на усть Поньги реки, да на море против Онежского устия Кий-остров и с варницами». (Вот когда уже на Кий-острове варили соль).
Позже из этих деревень образовалось селение Усть-Янское и состояло оно из нескольких слобод, называвшихся Погост, Низы и Верхи. Погост располагался от Погощенской площади до Седунова ручья, Низы - от Седунова ручья до Кипрова ручья, а далее до ручья Тальца располагались Верхи. Селение Усть-Янское позже будут именовать Усть-Янской волостью. На Погощенской площади Погоста (ныне площадь Шабалина) изначально располагалась первая в Онеге древняя церквушка, неизвестно в каком веке срубленная, а рядом с ней было кладбище. В дальнейшем на Погосте располагалось две церкви: Успенская соборная, холодная, неизвестно когда построенная (по крайней мере, в 15 веке она уже была), и Никольская теплая, построенная на месте старой в 1597 году. Между ними устремлялась к небесам шатровая звонница. Надо сказать, что Успенская церковь изначально также была шатровой. Таким образом, на Погощенской площади у начала Погощенской улицы стоял древний деревянный классический онежский тройник - ансамбль из трех культовых, рядом стоящих зданий (двух храмов и колокольни). Подобные тройники ранее украшали берега реки Онеги на всем ее протяжении.
Зная местоположение древнего тройника - угол Погощенской улицы и Соборного проспекта - можно представить его мысленному взору. Древняя Успенская церковь 15 века была заменена новой одноименной в 1695 году, а Никольский храм 16 века был заменен новым в 1683 году. (Летние шатровые храмы сохраняются дольше зимних кубоватых из-за лучшей вентиляции и особенностей строения). Новый Успенский собор также был холодным, как и древний и имел два придела: Иоанно-Богословский и Ильинский, но храм уже утратил шатер - вместо него появилось 12 глав. Ширину он имел 10,5 сажени, в длину был 11,5 сажени, в высоту 30 сажен, окон всего было 35. С трех его сторон, кроме восточной, было по входному крыльцу на 2 и 3 всхода. Под храмом располагалось 11 амбаров.
Никольский храм, как и древний, был теплым, но имел холодный придел Иоанна Предтечи, 5 глав, 20 окон, 2 слуховых окошка. Рядом с храмами стояла шатровая колокольня о четырех углах с одним крыльцом с севера и двумя амбарами под ней. К колокольне с западной стороны примыкала крытая галерея с двумя лавками и отдельным входом туда.
С основанием Крестного монастыря, рядом с ансамблем находилось монастырское подворье. В 1827 году обветшавший уже древний шедевр погиб в огне пожара. Такая участь постигла почти все тройники по реке Онеге, сейчас остался на реке один - в селе Лядины Каргопольского района, да еще один находится в селе Малошуйка Онежского района, расположенный на берегу реки Малошуйка, неподалеку от ее впадения в Белое море. Монастырское же подворье в том году выстояло, но было уничтожено пожаром 1886 года. В дальнейшем на его месте выстроили флигель и деревянную часовню во имя Успенья Божией Матери, которая сгорела во время обстрела города англичанами в 1919 году. А нам остается только мысленно представлять, какое великолепие украшало берега Онеги в этом месте.
До появления Соловецкого монастыря Север находился в руках новгородских владык и бояр. Известно, что в 15 веке Марфа Борецкая, Новгородская Посадница владела Усть-Янской волостью, как и всеми соседними волостями. После Марфы главным владельцем волости стал Соловецкий монастырь. Здесь уместно привести Грамоту гордой Посадницы Марфы Борецкой: «Се дает Марфа Исаковская Великого Новгорода Посадница, в дом Святому Спасу на Соловки, игумену Зосиме и всем священникам и старцам, вотчину свою по морскому берегу, рыбные ловища, землю и воды и пожни и лешей лес: куда я владела Марфа, туда владеть игумену и старцам во веки, а кто мою вотчину у них отнимет, или станет вступаться, и мне с ним судиться перед Христом. А у данные сидел отец мой духовный, Софийский поп Иосиф, да Олексей Бархатов, а даную писал сын мой, Федор Исаков. Лета 6978 год» (1470 от Р.Х.).
Вместе с ней свои вотчины Соловкам передали также другие видные бояре. Остатки боярских владений были ликвидированы Иваном Третьим. С тех пор крестьяне стали считаться государственными, наместник присылался из Москвы. Понятно, что присоединение земель к Соловецкому монастырю было насильственное, но жизнь здесь и ранее протекала не всегда спокойно. Так, из Двинской Летописи мы узнаем, что в 1419 году «приходяще мурманы войною 500 человек с моря в бусах и шняках, и повоеваша в Варзуге погост Корельское и в земли Заволочевской погост в Неноксе, и Корельский монастырь Святого Николы, и Онежский погост... И заволочане два шняка мурман избиша, а инии убегаша на море».
С течением времени онежане стали пользоваться большим благорасположением и защитой Великого Князя и Государя Ивана Грозного. Об этом говорит Онежская Уставная Грамота 1536 года: «А кому будет Онежанам волостным людям и становым от наместника и от тиуна и от доводчика и от иных от наместнических людей и от иных от наших людей от сторонних, какова гибель, в силе и в продаже, и в потраве и в иных обидных делах, чем их кто изобидит и они на тех сами срок наметывают, да срок им чинят стати передо мною, перед Великим Князем по Крещене Христово в тот день. А через сию мою грамоту, кто, что на них возьмет или чему их изобидит, быть от меня, от Великого Князя в казни. А день грамота Москвы лета 7044 июня 4 дня».
Но вместе с тем Грозный царь запрещал излишнее веселье онежанам; «А скороморохам у них в волости сильно не играти, а кто учнет у них в волости играти сильно, и старосты и волостные люди вышлют их из волости вон».
В «Смутное время», в 1613 году Усть-Янская волость подверглась большому разорению при нашествии польско-литовских людей - остатка разбитого под Москвой войска пана Ходкевича. Враг шел по Северной Двине на Север, миновал Архангельск, не посмев его штурмовать. Далее неприятель устремился к Николо-Корельскому монастырю, где расположен современный г. Северодвинск (на территории верфей Севмашпредприятия сохранились остатки монастыря), наделав там немало бед, а затем, по Онежскому полуострову, грабя и сжигая поморские села, бродяги с севера вышли в устье реки Онеги. В этом походе от крестьян-поморов они потерпели первый значительный урон между селами Лямца и Пурнема. Протекающий там ручей назван Костяным. Предание говорит, что крестьяне не стали погребать трупы врагов, а бросили их в лесной ручей, дно которого много лет спустя еще было устлано человеческими костями. Сохранившаяся без ремонта до нашего времени шатровая Никольская церковь в Пурнеме была поставлена в 1613 году вместо одноименной, сожженной неприятелем.
Поселение в устье Онеги подверглось той же участи. Волость была полностью разорена и частично выжжена. На Онеге - писали царю местные воеводы - насчитывается 2325 трупов замученных людей, и некому было похоронить их: множество людей бы¬ли изуродованы, многие разбежались по лесам и померзли. Жизнь в крае замерла, благосостояние людей упало. О том состоянии жизни в крае можно судить по грамоте царя Михаила Федоровича на имя Двинского воеводы Хилкова от 15 февраля 1620 года: «Бил челом нам богомолец наш Соловецкого монастыря игумен Иринарх с братиею... А от него они преж того питались, и город и острог строят и ратных людей держат, и те достальные соляные промыслы в прошлых годах (1613-1615) от литовских людей, от русских воров повоеваны и старцы и слуги и крестьяне и промышлен¬ники многие побиты, и деньги и лошади все пойманы. А крестьяне у них в их монастырских усольях и на рыбных ловлях живут непашенные, питаются соляными и рыбными промыслы. От немецкой и литовской войны и от хлебной дороговизны многие разбежались розно...». Немцами (от слова «немой», т.е. не умеющий говорить по-русски) на Руси называли почти всех иностранцев.
Примечательно, что местные жители почти повсеместно боролись против врага. Их партизанские действия, совместно с действиями ратных людей, в конце концов, погубили захватчиков на Поморском берегу Белого моря вблизи границы с Карелией. Большая часть «воров» погибла, а остальные бежали через заонежье к шведам. После ухода неприятеля русские села быстро возродились. Так из писцовых книг 1621 и 1622 годов известно, что в это время в Усть-Янской волости (г. Онега) было уже 22 крестьянских дома, 3 дома церковнослужителей и 6 келий.
С 1657 года Усть-Янская волость и все деревни по реке Онеге, вплоть до Каргополя, по грамоте царя Алексея Михайловича были приписаны к только что основанному патриархом Никоном ставропигиальному Крестному монастырю на Кий-острове. Под его началом они и находились до 1765 года. С 1765 года в связи с секуляризацией (конфискацией церковного имущества в пользу государства) Усть-Янская волость была вновь приписана к Новгородской губернии, а в 1776 году ее передали в ведомость Архангельской губернской канцелярии.
Именным Указом от 25 января 1780 года императрица Екатерина Вторая повелела называть поморское поселение в устье Онеги городом Онег: «Учредив при самом устроении Вологодского наместничества город Онег, для доставления жителям его пропитания в распространение торговли всемилостивейше позволяем от пристани сего нового города выпускать российские продукты и товары, коих вывоз не запрещен особыми указами, с пошлиною до будущего нашего соизволения, каковая собирается в городе Архангельском... Для осмотра и сбора настоящую определить таможню с потребным числом служителей...».
Открытие города состоялось торжественно 10 августа 1780 года по Указу ее императорского Величества, данному действительному тайному советнику, сенатору Ярославскому и Вологодскому генерал-губернатору Мельгунову. 19 августа 1784 года в городе Онеге были открыты все присутственные места, и был образован Онежский уезд. Границы уезда были определены следующие: от Онеги на север до села Дураково - 200 верст, к западу до села Унежма 86 верст, к юго-востоку и к югу по реке Онеге - 200 верст. Площадь уезда составила 23 тысячи квадратных верст. Общее число селений на тот момент было 315, жителей - 11500 человек.
В том же, 1784 году Онеге был пожалован свой герб с изображением герба города Вологды, но с добавлением в нижней его чести серебристой семги на голубом фоне. Однако этот герб вскоре был заменен на герб города Архангельска, нижняя часть герба осталась прежней. Архангел, повергающий дьявола, и семга - именно таким был исторический герб Онеги.
Первым городничим стал секунд-майор фон Газенкамф, которого в 1789 году сменил выходец из эстляндских дворян майор Зильберарм. В 1801 году городничим назначили первого русского - надворного советника Шумова. Так село Усть-Янское стало городом Онег, но это название не привилось, жители называли город более красивым именем - Онега.
Тогда же, в 1784 году на свет появился Генеральный план застройки города Онег, на котором Екатерина Вторая собственноручно написала: «Быть по сему». Именно этому плану Онега обязана поквартальной застройке с широкими прямыми улицами и проспектами. Кроме того, город должны были обнести водяным рвом с насыпями, с установкой на них пушек, однако эта часть плана не была осуществлена.
В 1791 году известный русский просветитель П.И. Челищев путешествовал по русскому Северу. Посетил он и Онегу, отметив, что в городе имелось в то время 140 домов и 1173 жителя. (Справка: в 1795 году в городе жило 1203 человека, в 1896 году - 2873, к 1917 году в Онеге было 5200 жителей, в 1925 году население города составило 4663 человека).
Посетивший в 1829 году Онегу «отец маячной службы» М.Ф. Рейнеке писал: «План строительства города так и остался невыполненным. К 1800 году было построено: собор и один казенный дом - казначейство. Вместо правильных кварталов строения не только старые, но и новые разбросаны кое-как и большей частью около берега реки на протяжении двух верст. Из земляных укреплений построено только три батареи выше города, и те развалились».
Невольно возникает вопрос - что заставило её императорское Величество обратить внимание на столь отдаленную от столицы Усть-Янскую волость и преобразовать ее в город? Шло административно-территориальное преобразование всей России, а Онега виделась Екатерине, прежде всего, как порт.
Баловень судьбы генерал-фельдмаршал граф П.И. Шувалов в 1752 году испросил высочайшего дозволения основать в Онеге коммерческое предприятие для вырубки и вывоза за границу леса. По его челобитной такое разрешение было получено в том же году. Императрица разрешила Шувалову ежегодно отпускать за границу до 250.000 сосновых и еловых бревен и брусьев, тысячу мачтовых и тысячу рейных, 200.000 пильных досок и 200.000 еловых шестов, а для распилки дров построить при реках на удобных местах пильные мельницы. Но вновь организуемое дело у графа так и не пошло. В 1760 году по прошению английского купца Гома. Шувалов передал ему свое коммерческое предприятие. В контракте Гому было указано для отпуска за границу леса ежегодно привлекать иностранные суда, и чтобы приходило из чужих государств для получения леса не менее 20 кораблей. Ему также было дано право построить 20 собственных кораблей.
Предприимчивый англичанин построил в городе Онеге, неподалеку от устья две верфи, по одной на каждом берегу реки. Мастеров для постройки кораблей не надо было искать на стороне. Онежане славились искусством судостроения с древности. К тому времени многие жители Онежского уезда имели суда, построенные собственноручно. Здесь интересно привести цитату из Памятной книжки Архангельской губернии на 1851 год: «Более ясные сведения о беломорском судостроении имеем с 1440 года, когда становятся известными в плавании по Белому морю монахи Соловецкого монастыря. Кроме морских промыслов, нужды и потребности монастырской жи¬зни заставляли иноков иметь частные сообщения с берегами Онежским и Кемским, а для этого необходимы были суда, которые, как говорит «Летописец Соловецкий» и покупались по мере надобности у жителей Онежской округи, Подпорожской волости и Сумского посада. Судостроение на Онежском побережье существовало издавна. Новгородцы были первыми, положившими начало к Белому морю». Действительно, новгородцы первыми стали строить здесь городки и заводить пристани, к которым задолго до открытия Архангельского порта приезжали иностранцы - «датские и норманские морские ватаги».
Онега и строилась, прежде всего, как портовый город. С основанием предприятий Шувалова и Гома устройство порта приобрело большое значение. Многократно производились изыскательские работы. Проводка судов в город предполагалась по двум фарватерам, расположенным по обе стороны от Кий-острова. Наносы реки постоянно изменяли фарватеры, и подходы к городу были крайне мелководны. Поэтому во времена Гома контора лесного торга разместилась на острове Кий, на мысу которого под названием Рожок и на Крестовом острове до сих пор сохранились вбитые в скалы большие металлические кольца, предназначенные для швартовки плоскодонных грузовых барж. С 1764 года там же находилась таможенная застава, а с 1781 года - таможня. Лесной товар из Онеги доставляли на Кий-остров на дощатых плоскодонных баржах, так называемых «романовках», перегрузка леса с них на морские корабли производилась при отсутствии волнения на открытом рейде вблизи острова. В дальнейшем было несколько проектов обустройства гавани в устье реки Онеги, однако ранние попытки углубить дно фарватера оказались безуспешными.
В настоящее время Онежский морской порт является вторым по значению после Архангельска в бассейне Белого моря (по состоянию к 1991 г., однако, к концу 1990-х годов порт утратил свое прежнее значение из-за резкого сокращения лесо-экспортного производства). Благодаря проведенным в советское время дноуглубительным работам, стала возможным проводка больших судов к причалам расположенного непосредственно в устье лесозавода во время прилива на полной воде. Однако загрузка судов здесь проводится не более, чем наполовину, после чего корабли идут на догрузку в Архангельск.
Соборный проспект. От верхнего конца Погощенской площади начинается Соборный проспект (ныне имени Кирова), его начало совпадает с началом Погощенской улицы (ныне улица Победы). Погощенской улица называлась потому, что начинались она на Погосте - местоположении древних храмов. Переименована улица в честь победы Красной армии над десантом войск Антанты в бою 1-2 августа 1919 года, о чем позже будет особый рассказ. А мы пойдем дальше по Соборному проспекту, который ранее был главным проспектом города. Здесь концентрировалась вся городская жизнь, располагались магазины, лавки, купеческие дома и государственные учреждения» (рисунок 2.377) [27, фото].
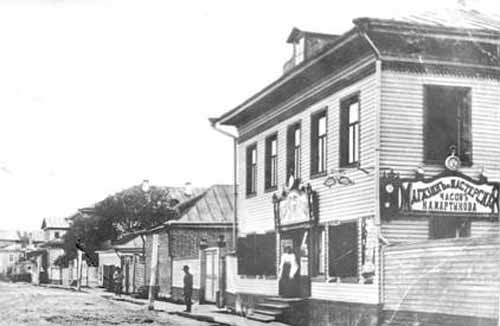
Рисунок 2.377 - Город Онега. Соборный проспект в начале ХХ века [27, фото].
«Из существующих ныне каменных зданий конца XIX - начала XX века на Соборном проспекте привлекают внимание лишь несколько. Во-первых, это магазин из крупного и крепкого красного кирпича, построенный в XIX веке, но хорошо сохранившийся. Магазин, известный в Онеге под названием «Кирпичный» принадлежал ворзогорскому торговому крестьянину - купцу Мелехову. Рядом с магазином находился несохранившийся дом хозяина. На углу Соборного проспекта и Седуновской улицы (ныне ул. К. Маркса) почти на берегу реки стоит двухэтажный каменный магазин купца Михайлова, к нему примыкает деревянная жилая постройка - дом Михайлова. В советское время здесь был пивзавод. К слову сказать, что на этом отрезке проспекта, рядом с храмами на Погосте всегда располагался кабак, который в народе назывался «гуляй-кабак».
За домом Михайлова на берегу реки находились знаменитые когда-то в Онеге рыбные ряды - базар, где торговали рыбой. Рыбы до советских времен всегда в Онеге было изобилие. Самой дорогой рыбой являлась семга - один рубль за килограмм, а остальная рыба стоила копейки. Цены менялись в зависимости от спроса и предложения. Там же, на берегу располагались рыбные склады и ледники» (рисунок 2.378) [27, фото].

Рисунок 2.378 - Город Онега. Соборный проспект в начале ХХ века [27, фото].
«Здесь в Онегу впадает Седунов ручей. В его устье имелась миниатюрная бухточка, которая всегда использовалась для стоянки мелкосидящих судов. Здесь же суда и разгружались. Находящийся рядом амбар, срублен в «лапу» дореволюционной постройки. Сразу же за Седуновым ручьем (выше его) в городе были выстроены первые общественные бани. Инициатором их строительства выступил хозяин кирпичного завода Матвей Хорев, но общественные бани не пользовались популярностью - их никто не посещал. В советс¬кое время на их месте построили санпропускник.
Рядом, неподалеку от дома купца Корчажинского с 1915 года развлекал публику первый в Онеге синематограф, позже переименованный в кинотеатр «Рекорд». За кинотеатром находилась бухточка для мелкосидящих судов, подобная вышеуказанной, образованная вторым рукавом Седунова ручья, ныне засыпанная. Примечательно, что на месте этой бухточки предприимчивым купцом 1-й гильдии Дьяковым был выстроен док, куда, после наполнения отсеков дока водой из ручья, через ворота заводились суда для ремонта корпуса. В этом доке Дьяков построил несколько судов для организации «китоловного» промысла. Первые же попытки данного промысла оказались неудачными и навсегда отбили охоту у поморов заниматься им. Вблизи этой бухточки располагались склады общественного зерна - «магазея» и одноэтажный каменный магазин купца Дикина Акима Макаровича. Сейчас в этом здании находится Сбербанк» (рисунки 2.379-2.380) [27, фото].

Рисунок 2.379 - Город Онега. Соборный проспект. Мост через Седунов ручей и дом Корчажинских в начале ХХ века [27, фото].

Рисунок 2.380 - Город Онега. Дом Корчажинских в 1991 г. [27, фото].
«На углу Соборного проспекта и улицы, называемой в на¬роде Кладбищенской (ныне ул. Володарского), стоит двухэтажное каменное здание купца Корчажинского. Впоследствии, уже перед революцией, этот дом перешел по наследству исправнику Донейко, так как он был женат на дочери Корчажинского. Семья купца проживала на втором этаже, а на первом этаже был магазин, контора, помещения для прислуги. Вход в магазин расположен с угла и глядел на подобный вход с угла в магазин Дикина. Над входом в магазин нависал балкон, кроме того, на стороне Соборного проспекта на втором этаже дома был еще один балкон. Балконы не сохранились, их разрушили сознательно, так как в советское время на втором этаже этого здания расположились кабинеты милиции (НКВД), а внизу некоторое время продолжал функционировать магазин «Динамо». Сейчас здание полностью занимают районный отдел милиции и КГБ.
Точно такое же однотипное здание, но с хорошо сохранившимся балконом, расположено через квартал на углу следующей улицы по Соборному проспекту. Его хозяином был купец (торговый крестьянин) Воробьев Алексей Иванович. Его семья также занимала верхний этаж, а на первом этаже жила прислуга и был магазин. Сейчас в здании находится Онежская типография и редакция районной газеты. За домом Воробьева находились каменные склады и лавки из красного кирпича, развалины которых видны и поныне. В них в советское время еще в 1960-е годы была тесная городская баня, плохо справлявшаяся с потоком желающих попариться» (рисунки 2.381-2.383) [27, фото].

Рисунок 2.381 - Город Онега. Соборный проспект в начале ХХ века [27, фото].

Рисунок 2.382 - Город Онега. Дом Воробьевых в 1991 г. [27, фото].
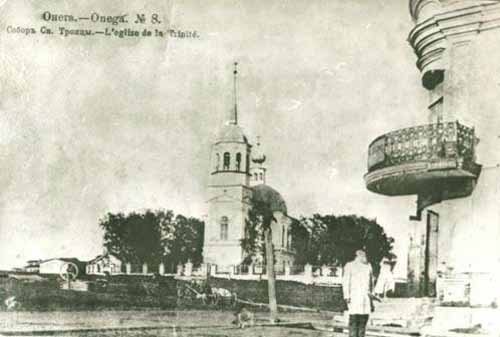
Рисунок 2.383 - Город Онега. Дом Воробьевых и собор Св. Троицы в начале ХХ века [27, фото].
«Улица, на которой расположен дом Воробьева, изначально называлась Казначейской, так как на ней еще в начале XIX века было построено каменное здание казначейства. В этом доме сейчас находится отделение Госбанка. А в самом начале ХХ века, еще до революции улицу переименовали в честь Н.В. Гоголя. Рядом с домом казначейства находится (сейчас уже надо говорить: «находился») кинотеатр «Октябрь». Его построили уже при Советской власти на месте, где стояло здание трехклассного высшего Ломоносовского училища - мореходные классы. Здание мореходных классов сгорело 1 августа 1919 года из-за обстрела Онеги англичанами. Напротив кинотеатра, через дорогу, в парке стоит двухэтажный деревянный, стилизованный под старину Дом-музей А.С. Кучина, срубленный здесь в 1987 году из свежих брусьев.
Река Онега. Улица Гоголя сбегает к реке, где раньше находилась деревня Низы. Деревянные дома, расположенные вдоль реки, сохраняют в плане облик древней деревни - это самая старая жилая часть города. Набережная здесь довольно-таки живописная, открывается хороший вид на реку, здесь можно хорошо погулять, насладившись красотой и покоем.
Река Онега на всем своем протяжении очень красива, может быть, поэтому в народе существует легенда, что название река получила во время поездки одной высокопоставленной особы вдоль ее берегов (некоторые люди даже утверждают, что это был сам Петр Великий). Человек из столицы восклицал непрестанно: «О, Нега!» На самом же деле название это финно-угорского происхождения. Попытаемся в нем разобраться: ЕГА в переводе на русский язык означает РЕКА. ОННИ (финское) - БОЛЬШОЙ. ОННЬ-ЕГА - БОЛЬШАЯ РЕКА. Слово АННИ (финское) - БОГАТЫЙ, ДАРОВИТЫЙ. АН-НЬ-ЕГА - БОГАТАЯ РЕКА. Но есть и третья версия: на языке многих финно-угорских народностей слово ЕН, ЕНЬ, ЯНЬ означает БОГ, ГЛАВНОЕ БОЖЕСТВО. Получается ЕНЬ-ЕГА, ЯНЬ-ЕГА - РЕКА БОГА, СВЯТАЯ РЕКА.
Река Онега имеет протяженность 416 километров, берет свое начало из озера Лача, на котором расположен город Каргополь. Наибольшая ширина реки 300-400 метров, минимальная 30-40 метров. Наиболее крупные притоки реки: Волошка, Кена, Моша, Кожа. Река протекает по низине, но имеет много порогов, вызванных выходом на поверхность твердых древних гранитных пород. Значительное количество порогов не позволяет использовать реку для судоходства на большей части ее протяжения. Первый порог от города Онеги находится в 25 километрах. От этого порога вверх по реке до села Турчасово имеется единственный на реке судоходный участок протяженностью менее 200 км с регулярным пассажирским теплоходным сообщением. Навигация на реке длится 160-180 дней. По реке осуществляется молевой сплав древесины - около 1 миллиона кубов леса в год. В реке водится лещ, налим, окунь, щука, ерш, язь, минога, семга и другая рыба.
Семгу в старину ловили посредством беломорских заборов - бревенчатых частоколов, вбитых в дно реки таким образом, что забор перегораживал реку. У отверстий забора ставились сети. Эти заборы стояли по несколько десятков, один за другим, начиная от устья Онеги, и на 17 верст выше города до села Подпорожье. Вот, что писал в середине 19 века этнограф С.В. Максимов, посетивший наши края, в своей книге «Год на Севере», за которую он был удостоен Малой золотой медали Императорского Географического общества: «Здесь вылавливается тот сорт беломорской семги, который известен в Петербурге под именем «ПОРОГ» и считается лучшим, причем «ПОРОГ» способен долго хранить свой засол, не теряя вкуса, вида и красного цвета». Именно этот сорт семги со времен патриарха Никона, бывшим в этом краю игуменом Кожозерского монастыря, поставлялся на патриарший и царский стол, а в дальнейшем и на столы советских кремлевских правителей. До конца 1980-х годов в Подпорожье река была перегорожена забором, выловленную семгу сразу на самолете отправляли в Москву. Авторы имели счастье сравнивать вкус семги, выловленной в разных реках Архангельской области и в Норвегии, онежская семга действительно лучше.
Вылавливаемую рыбу продавали нерезаными рыбинами с торгов, при этом каждая рыбина должна была иметь не менее десяти фунтов весу - это 4 килограмма. Семга давала хороший стабильный доход рыбакам, так в 1900 году крестьяне Подпорожской волости получили за семгу около 30 тысяч рублей, а в 1901 году они же за семгу выручили более 25 тысяч рублей, кроме того, семга запасалась на зиму в каждой семье в достаточном количестве. По свидетельству местных жителей, семгой кормили даже кошек и собак. Случалось и то, что по приходу нового сезона не съеденную прошлогоднюю семгу бочонками вываливали обратно в реку.
Решением горсовета от 7 мая 1959 года набережная, на которой мы находимся, получила имя Петра Попова - уроженца села Подпорожье. Петр Попов в юные годы прошел закалку в марксистских кружках Санкт-Петербурга, являлся фанатичным большевиком, поборником неограниченной диктатуры пролетариата. Вернувшись в Онегу в начале 1917 года, он жестоко проводил в жизнь идеи коммунизма и диктатуры пролетари¬ата, возглавил первую уездную организацию большевиков, разогнал с группой вооруженных солдат уездную Земскую управу. Вскоре стал начальником уездной ЧК, возглавлял отряд «красных штурмовиков», а после высадки союзнических войск в Онеге он - организатор и командир первого красного партизанского отряда. В 1921 году П. Попов исключен из ВКП(б) за конфликт с вышестоящими людьми. Дело его разбиралось в военном трибунале под председательством из¬вестного на Севере большевика Тимме. Трибунал оставил его на свободе. Далее Попов работал на разных руководящих должностях, репрессирован в 1937 году, вскоре умер в лагере.
Соборная площадь. Дойдя по набережной до Соборной улицы (ныне ул. Свердлова), полюбовавшись панорамой реки и города, лучше всего вернуться на старую Соборную площадь, к парку, в центре которого, на горе возвышается каменный двухэтажный собор. По Генеральному плану Екатерины Второй это место должно было стать центром горо¬да. Из «Описи Учинения согласно реестра» от 1834 года известно, что «Каменная двухэтажная церковь построена на всемилостивейше пожалованные ея императорским Величеством Императрицею Екатериною Второй 8000 рублей сумму, и приобретенные на оную процентные деньги, и присовокуплением от разных лиц пожертвований и приношений с ревностным усердием граждан к достижению воздвигнутия храма его доставлением к постройке потребных икон и разных материалов, которая строением начата 1796 года мая 29 дня, а окончена 1800 году кроме внутренней отделки. Прежде построения сего храма на вновь пред избранием места имелись в то время в нижнем конце города древние деревянные церкви: соборная во имя Пресвятой Владычицы нашея Богородицы и приснодевы Марии, Честнаго и Главнаго ея Успения с двумя сторонами приделами: от юга Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, а от севера Пророка Божия Ильи. Вторая во имя Святителя и Чудотворца Николая теплая и при¬делом на оною Святого Пророка Предтечи Крестителя. Третья во имя Воскресения Святого Праведного Лазаря друга Христова» (о церкви св. Лазаря см. ниже).
Короче говоря, еще при существовании ветхих деревянных храмов на Погосте и на кладбище, было начато строительство каменного двухэтажного Свято-Троицкого собора. 8000 рублей пожаловала императрица, а остальные деньги пожертвовал народ. Купцы жертвовали более, чем по тысяче рублей каждый. Собор имел купол очень большого диаметра, на нем стоял восьмигранный барабан с восьмью око¬шками, а уже на нем красовалась вытянутая глава на короткой шейке. Через посредство трапезной с храмом была связана колокольня, которая имела увенчанный высоким шпилем купол.
Строительство продолжалось долго. Лишь в июле 1800 года архимандрит Крестного монастыря Никон освятил нижний, теплый храм Архангела Михаила, а второй этаж - холодный Свято-Троицкий храм был освящен только 17 мая 1814 года архимандритом Крестного монастыря Кириллом. И, наконец, придел Николая Чудотворца в трапезе нижнего храма был освящен 2 июля 1837 года протоиереем Иоанном Тамицким.
28 ноября 1848 года во время литургии в нижнем храме каменного собора случился пожар. Имущество и иконостасы нижнего этажа удалось спасти, а на втором этаже и в колокольне сгорело все, что могло гореть. Купол колокольни обвалился, все 8 колоколов упали и разбились. Возобновление верхнего храма было медленное, вторично он был освящен в 1860 году архимандритом Крестного монастыря Анастасием совместно с Иоанном Тамицким.
Именно момент восстановления второго этажа и колокольни увидел писатель Сергей Васильевич Максимов, посетивший Онегу в 1859 году. Вот какое впечатление произвел на него город: «...солнце осветило Онегу: плачевно глядела она из-за ярового поля черными гнилыми домами. Правда, что белелась на горе каменная церковь, но церковь эта оказалась недостроенною; правда, что белелось еще каменное здание, но и оно оказалось неизменным казенным казначейством, с неизбежно сильно захватанными дверями, с грубыми заспанными полупьяными сторожами-солдатами. Единственная улица города, по которой можно еще ездить на лошадях, была когда-то выстлана досками, но теперь представляла ужасный вид гнили, с трудом преодолимый путь к цели... Все обыватели города Онеги заняты работами на лесных заводах, живя там по пять суток в неделю; на шестые приходят они в контору, получают расчет и в воскресенье, почти до самого утра, на улицах слышатся песни, бродят подгулявшие горожане. Песни эти не смолкают на ночь, тя¬нутся потом и во весь следующий день - понедельник, который известен там под именем Маленького воскресенья.
По общим слухам и по наглядным приметам трудно найти в другом каком-либо городе такого долгого бестолкового загула, как в Онеге. Вот почему дома безобразно покривились на бок, деревянные мостки погнили и обвалились, три городских кабака новенькие, каменная церковь недостроенная, деревянная, кладбищенская полуразрушилась. Можно положительно сказать только о женском населении, отличающимся крепким здоровым и красивым телосложением, сохранился новгородский тип. Ему даже до сих пор не изменяет и внешний наряд женщин, особенно праздничный.». Здесь же С.В. Максимов отмечает, что «каждую субботу и накануне всех больших праздников моют полы, подоконницы, лестницы и даже самые стены изб». К слову сказать, еще в 1960-е годы было принято в Верховье города наводить дома порядки посредством «шорканья» веником-голиком и речным песком не накрашенных половиц и даже крыльца. Этот обычай постепенно сошел на нет лишь к началу 1970-х годов.
Конечно же, все это было написано под впечатлением столичного человека, испытавшего на себе все «прелести» захолустного почтового тракта и раздраженного дискомфортом. Путешественники, посещавшие Онегу до С.В. Максимова и после него, отмечали среди добродетелей у онежан трудолюбие, честность и чистоплотность, среди же пороков - чрезмерное пьянство и суеверие.
В 1877 году рядом с собором на месте старой деревянной сторожки была построена новая - каменная. В 1878-1879 годах территорию вокруг собора обнесли каменной оградой. С горы, в низины прилегающей территории ограда не спускалась, а напротив дома Воробьевых, рядом с ныне существующим домом-музеем А.С. Кучина, был колодец. В эти же годы храм ремонтировали. На ремонты и другие работы по устройству храма жертвовал народ. От всех купцов исходили крупные тысячные пожертвования, так купец П.А. Пурыгин пожертвовал одномоментно 3750 рублей, И.И. Платунов - 2200 рублей и т.д. Огромные по тем временам деньги.
К соборному Свято-Троицкому храму были приписаны три церкви: на Поньге, в селе Покровском и кладбищенская Свято-Лазаревская церковь в городе. Также к храму были приписаны две часовни: одна на южной окраине города, другая в деревне Андозерской в честь Святых апостолов Петра и Павла, переделанная в 1896 году в церковь пристройкой алтарной части. Говорят, что возле собора захоронений не делалось, но авторы помнят тропинку в кинотеатр «Октябрь», проложенную возле стен собора по остаткам некрополя, по надгробным гранитным плитам с полустершимися именами» (рисунки 2.384-2.385) [27, фото].

Рисунок 2.384 - Город Онега. Собор Святой Троицы в начале ХХ века [27, фото].

Рисунок 2.385 - Город Онега. Собор Св. Троицы и сторожка в 1991 г. [27, фото].
«После революции здание Свято-Троицкого собора подверглось варварскому разграблению и разрушению. Комсомольцы сделали в нем клуб. Церковная утварь и иконы были вначале вынесены в сторожку, а затем неизвестно куда девались. Многие из молодых людей, принявшие деятельное участие в разорении храма, живы и поныне, помнят, что венцом вандализма было обезображивание колокольни: шпиль уронили при помощи канатов, за которые по команде одновременно дернули стоящие под горой комсомольцы. Долгое время здание собора стояло бесхозным, наконец, после капитального ремонта проломленной крыши бывший собор приспособили под клуб. Основным времяпровождением в храме стали танцы. В алтарной части вместо былого благолепия установили примитивную эстраду, а вдоль стен стояли скамьи из необструганных досок. Потом собор приспосабливали под Дом пионеров, а затем, за неимением средств на ремонт, здание долгие годы стояло совершенно заброшенным. С 1989 года здесь расположен городской музей. (В первые годы XXI века собор вернули Православной церкви).
Начало организации музея положено группой краеведов-любителей в середине 20-х годов под руководством Н.А. Наконечного. Сначала музей располагался в доме купца Воробьева, затем был переведен в дом бывшего владельца кирпичного завода Хорева, что на Погощевской площади (сейчас там разместился военкомат), а в 1952 году по решению партийных властей музей был закрыт как идеологически вредное заведение. Работы по воссозданию нового музея начались благодаря решению горисполкома от 30 ноября 1966 года.
Но вернемся к собору. В 1889 году при нем была открыта церковно-приходская школа. На нее жертвовали купцы Корчажинский и Воробьев. Престарелые и больные жители города получали от церкви содержание, благодаря благотворительности до революции нищие по городу не ходили. При церкви всегда была богадельня, содержавшаяся на пожертвования достаточно богатых горожан» [27].
«Средний проспект. От обелиска направимся дальше, в верхнюю часть города по Среднему проспекту (ныне проспект Октябрьский) к окончанию города. Старые деревянные жилые постройки горожан резко отличаются от деревенских куцыми хозяйственными пристройками, но и они в свое время были предназначены для содержания скота. Так, на 1 января 1899 года в Онеге было 300 коров, 290 лошадей и 241 овца. Три стада коров и много овец в личном пользовании жителей города было до начала - середины 1960-х годов ХХ века. Почти в каждом дворе кудахтали куры и горланили на заборах петухи. Авторы помнят, как по утрам по городу шли пастухи, собирали скот, гнали его на пастбища, а вечером коровы возвращались хозяевам. Реформы Н.С. Хрущева, в частности, невыгодные налоги и запреты на покосы, вынудили людей избавиться от животных и птиц. Чтобы прокормить животных наиболее упорные корововладельцы ходили по улицам с серпами, обжиная траву возле домов. Во дворах имеются поля, засеваемые, в основном, картофелем, собственные бани.
Со 2-й Кипровской улицы (ныне ул. Первомайская) начинается верхняя часть города - Верховье. Кипров ручей протекает между 1-й и 2-й Кипровскими улицами. 1-я Кипровская улица переименована в улицу имени Герасимова решением горсовета от 1 ноября 1957 года в честь 40-летия Октябрьской революции.
Следующая улица называлась Фоминской - по названию горки на ней. Это древнее название свидетельствует о том, что здесь ранее происходили народные загородные гуляния на Фоминской неделе (сразу после Пасхи). Улица была переименована в улицу Оксова решением горсовета от 1 ноября 1957 года… Следующая улица называлась Верховской, она последняя на выходе из города и более молодая, чем остальные. Решением горсовета от 1 ноября 1957 года улица Верховская переименована в улицу Рассказова. Проспект заканчивается на горке, где в старые времена на выходе из города стояла неизвестно когда срубленная часовня, и рядом с ней - поклонный крест. Здесь было начало древнего тракта Онега - Каргополь. Путник, начиная или заканчивая путь, мог здесь воздать Богу должное. Именно этим трактом шли торговые обозы, богомольцы на Соловки, в Пертоминский, Николо-Корельский и Крестный монастыри. Но был и второй тракт, который проходил параллельно этому: Архангельск - Николо-Корельский монастырь - Солозеро - Рябы - Хайнозеро - Андозеро - Сырья и далее вдоль Онеги по правому берегу (в отличие от предыдущего, который шел по левому берегу) - тракт назывался Сюземский. Вдоль реки из Онеги шла и первая телеграфная линия, вначале до д. Федотово, а оттуда на Архангельск, открытая 2 сентября 1884 года.
Отсюда открывается хороший вид на реку, который доставлял бы наслаждение, не будь река загромождена бревнами и разгорожена линиями бонов. По реке осуществляется молевой сплав древесины - самый дешевый вид транспортировки для лесной промышленности. Заготовленные бревна, всю зиму складируют на берегах реки почти на всем ее протяжении, а весной и летом их сбрасывают в воду. Лес плывет сплошной массой, бревна при этом трутся друг о друга, теряют кору, которая погружается на дно, впитывают влагу, тонут в неимоверных количествах, устилая дно реки в несколько слоев, разлагаясь и выделяя фенолы, дубильные вещества, органические кислоты, которые губят все живое Древесиной загрязняются и берега. Кроме того, сплавные катера своей волной производят интенсивный размыв берегов, выбрасывают мальков рыб из воды, тем самым, уничтожая их. Все это обернется, и уже обернулось миллионными, если не больше, потерями для наших потомков. Большой вред экологии наносит также Кодинский целлюлозный завод и гидролизный завод в Онеге. (К концу 1990-х годов объемы вырубаемого леса вдоль реки резко сократились, молевой сплав был запрещен, сейчас лес сплавляется плотами)…
Лес возле верхней оконечности города в народе называют Сосновым бором. В нем много песчаных дорожек, целебный воздух. В старину, да и в наше время там любила гулять публика, устраивались концерты, спортивные праздники, был обустроен лесной стадион. В конце 1930-х годов в Сосновом бору основали четвертое по счету в Онеге кладбище, закрытое в середине 1980-х.
Загородная улица (пр. Ленина). Вернемся немного назад по Среднему (Октябрьскому) проспекту и поднимемся по любой из первых улиц в горку на параллельный проспект - центральную городскую магистраль длиной 9 километров, проходящую через весь город. Раньше это была просто Загородная улица. Прямая, как стрела, улица заканчивалась за Погощенской площадью. С ее высот была видна река, ее устье, море. Перспективная панорама была загублена недавно строительством гостиницы и зданий возле нее, перегородивших проспект. После убийства Урицкого, улица получила его имя. От ее нижнего конца, по направлению к лесозаводу, шла улица Профсоюзная - там были новостройки. В 1960 году в связи с 90-летнем со дня рождения Ленина улицы Урицкого и Профсоюзная назвали проспектом имени Ленина.
Следуя по проспекту Ленина в сторону моря, вскоре доберемся до больничного городка, основанного в конце XIX века приезжим архитектором Полежаевым по прозвищу Кунава (вместо КАНАВА он говорил КУНАВА). Полежаев был популярным архитектором, для зажиточных горожан построил в Онеге много домов, церковь на Поньге, разбил Александровский парк. Из старых зданий 19 века в больничном городке сохранилось здание бывшей богадельни - низкое одноэтажное деревянное здание, выходящее почти на самый проспект. Теперь на месте старого больничного городка высятся этажи современного больничного комплекса, при этом, к сожалению, больничный парк не удалось сохранить.
Минуем больничный городок, и сразу же на правой стороне проспекта нельзя не заметить скромное двухэтажное беленое кирпичное здание постройки 19 века. Здесь до революции размещалось городское училище. Первая школа (училище) в Онеге на 30 учащихся была открыта еще в 1788 году. Первым учителем в Онеге стал Григорий Иванович Иванов. К концу 19 века, кроме церковно-приходской школы, было еще городское училище и два приходских училища, женское училище, общим числом мест на 100 учащихся. Обучение было бесплатным, учиться в них могли практически все желающие. В городском училище было даже столярное ремесленное отделение. Для помощи бедным учащимся в городе было создано благотворительное Попечительское общество. Женское училище было основано на средства почетного гражданина города Архангельска купца Петра Кузьмича Куйкина в середине 19 века…
Свято-Лазаревская церковь. От здания школы с горки видна церковная ограда с вековыми соснами за ней. Там до революции было кладбище (второе по счету в Онеге, основанное в XVI веке, подвергшееся актам вандализма с разбиванием надгробных памятников и могильных плит в революционные события). В настоящее время кладбище угадывается лишь по множеству бугров, из которых кое-где торчат заросшие дерном гранитные плиты с уже неразборчивыми надписями. На этом кладбище был поставлен деревянный храм во имя Святого Лазаря, освященный в 1791 году, на месте обветшавшего более древнего храма, поставленного неизвестно когда. 24 мая 1884 года деревянный кладбищенский храм сгорел, и было решено выстроить каменную церковь, по форме напоминающую Свято-Троицкий собор. На строительство этой церкви было употреблено 3 тысячи рублей церковных сумм и 8 тысяч рублей сборных. Больше всех пожертвовали, как всегда, самые богатые горожане - купец Корчажинский (1800 рублей), купец Воробьев (1050 рублей)» (рисунок 2.386) [27, фото].

Рисунок 2.386 - Город Онега. Кладбищенская церковь Св. Лазаря (1889 г.) в 1991 г. [27, фото].
«5 июля 1886 года в Онеге случился страшный пожар, в котором сгорело 100 лучших домов и до 150 нежилых строений, т.е. город сильно выгорел. Погорельцы первое время вынуждены были жить в банях, в амбарах. Все постройки были перенаселены. Но, несмотря на это обстоятельство, люди принимали горячее и деятельное участие в постройке кладбищенской церкви. Новый каменный храм был освящен 10 декабря 1889 года игуменом Крестного монастыря Варлаамом. В годы Советской власти Свято-Троицкий собор в центре города закрыли, и верующих продолжал утешать только этот храм.
В притворе Свято-Лазаревской церкви находится (находился до середины 1990-х годов, потом пропал неизвестно куда) деревянный сосновый крест середины XVII века - 1656 или 1657 года. Выполнен он был по точным размерам Креста Христова (3 метра 34 см высотой). Это копия, изготовленная местными крестьянами деревни Чешьюга, с кипарисового креста, выполненного в Палестине по заказу патриарха Никона. Кипарисовый крест, ставший главной святыней Крестного монастыря, имел около 400 святых мощей и богатое украшение. Крест везли вдоль Онеги зимой 1656-1657 годов, и этот Крестный ход вызывал массовый энтузиазм населения. Есть сведения, что была сделана не одна копия по размерам креста, на котором был распят Христос, но сохранилась лишь эта - в Свято-Лазаревской церкви. Крест интересен еще и скопированной с подлинника надписью, а также первоначальной росписью, которая на подлинном кипарисовом кресте была закрыта украшениями - золотом и чеканным серебром.
Вот эта надпись: «При державе Благообретеннаго и христолюбивого Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича Всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца и иных Государств Государя и Обладателя и при Благоверной Государыне Царице и Великой Княгине Марии Ильиничне и при сыне их Благоверном Государе Царевиче и Великом Князе Алексее Алексеевиче сотворен сей Великий Крест Божией милостию Никоном Архиепископом Царствующего великаго града Москвы и Всея Великия и малыя и Белыя Руси Патриархом от честного древа кипариса и украшен серебром и златом во хвалу и поклонение Христианам. Христе Божий помилуй и спаси душу мою силою честного и Животворящего Креста и святых, ради молитв их же мощи водружены в сем Кресте. От воплощения Слова Божия 1656 году и от создания мира 7164 года августа в 1-й день».
Неподалеку от церкви расположен аэродром. 10 января 1935 года в Онеге приземлился первый самолет марки СТАЛЬ-2, одномоторный. Самолет привел Заслуженный пилот Северного Гражданского воздушного флота Вершинский, 12 января 1935 года районная газета «Онежский Ударник» сообщила, что с этого дня началось регулярное пассажирское сообщение по авиалинии Онега - Архангельск. Однако регулярное пассажирское сообщение с Архангельском началось лишь с 1957 года.
Раньше на месте аэродрома работал кирпичный завод, так называемый «Белый двор», основанный в середине 17 века, изготовлявший кирпич для строительства Крестного монастыря на Кий-острове. По распоряжению патриарха Никона мастера Ферапонтова, Кирилло-Белозерского и Валдайско-Иверского, Новоиерусалимского монастырей, обучали здесь кирпичному делу местных мастеров. По краям взлетной полосы ещё можно заметить ямы, где копали глину, а до недавнего времени там водились караси и мотыль. Последний владелец кирпичного завода Хорев славился тем, что, вконец пропившиеся онежане, могли придти к нему, а он давал им место в общежитии и еду, при условии выполнения чисто символической минимальной нормы. Кто работал сверх того, тому платились деньги. Поэтому Хорев пользовался популярностью среди гуляк. Сразу же за церковной оградой и за аэродромом раскинулись поля Онежского совхоза - неэффективного, убыточного хозяйства.
Культурная жизнь. От церкви по улице Володарского выйдем на Средний проспект и, пройдя по нему квартал вниз, подойдем к одноэтажному, длинному дому с эркером и весьма красивыми окнами. Да и сам дом отличается изяществом - это, пожалуй, самый красивый деревянный дом в Онеге. До революции этот дом принадлежал Потомственному Почетному гражданину города Онеги Константину Константиновичу Башмакову, управляющему Поньгскими лесозаводами. Второй, также весьма красивый дом с мезонином, принадлежавший Башмакову, украшает набережную Поньги (на той стороне реки). В городском доме Башмакова в советское время сначала располагалась ЧК, затем детский дом, затем детский сад, а в 80-х годах здание передано под библиотеку имени Пушкина. Библиотека раньше находилась в другом, несохранившемся здании и была основана на средства благотворительного Попечительского общества 26 мая 1900 года. Этому предшествовали следующие события…
В связи с библиотекой Пушкина уместно сказать, что 26 августа 1785 года Онегу проездом по Олонецкой губернии посетил великий поэт Державин, задержавшийся в нашем городе на одни сутки. В своих путевых записях он упоминал об Онеге. Рядом с библиотекой через Седунов ручей стоит до сих пор одноэтажный желтый дом купца Михайлова. Примерно в этом месте в 1908 году городской голова Пахомов впервые ввел керосиновое освещение улиц, для чего поставили фонарные столбы. Первым осветителем города был Егор Анисимов по кличке Валящий» (рисунок 2.387) [27, фото].

Рисунок 2.387 - Город Онега. Дом Башмакова в 1991 г. [27, фото].
«Улица Победы и другие. Отправимся по Среднему проспекту дальше, по направлению к показавшейся Погощенской площади и повернем направо, по ул. Победы. Дальнейший наш путь пройдет через площадь Победы, называемой в народе площадью Пяти Углов. Через квартал от площади по улице Победы на углу улиц Победы и Гагарина (ул. Победы, 7) стоит двухэтажный жилой деревянный дом с мемориальной доской. Надпись на ней сообщает, что в этом доме работал первый большевистский уездный исполком Совета рабочих, солдатских и крестьянский депутатов, избранный 20 декабря 1917 года. В последствие, в страшные годы сталинских репрессий, здесь располагался следственный изолятор НКВД… Напротив, через дорогу, обращает на себя внимание одноэтажный дом начала века, характерной норвежской архитектуры, в котором жил долгие годы краевед-любитель, основатель Онежского музея Наконечный. От угла этого дома начинается улица им. А.С. Кучина» (рисунок 2.388) [27, фото].

Рисунок 2.388 - Город Онега. Дом Суркова (ул. Победы, 7) в 1991 г. [27, фото].
«Налево от следственного изолятора НКВД идет улица им. Ю. Гагарина, которая в те годы называлась Милицейской и была переименована в честь космонавта Юрия Гагарина решением горсовета от 16 апреля 1961 года. На правой стороне улицы Гагарина, в самом ее начале, в 1965 году разбит парк Победы в память онежан, погибших в годы великой Отечественной войны.
Последуем дальше по улице Гагарина до ближайшей улицы под названием Красноармейская. На ней возле реки еще в 19 веке стояли солдатские казармы со своей домовой церковью (там сейчас расположены здания ПТУ), а мы направимся по ул. Красноармейской направо, в противоположную от реки сторону к виднеющемуся лесу. Вскоре встречается возвышенность, заросшая соснами - кладбище, открытое после революции (третье по счету в Онеге), известное в народе под названием «старого кладбища». Закрыли его в годы репрессий. Люди говорят, что там по ночам расстреливали арестованных онежан.
Через километр улица Красноармейская заканчивается у подножия горы Пивка (горами в Онеге называют все возвышенности). Здесь расположен лыжный пансионат «Онега» и спортивный комплекс… За Спортивной горой находится живописнейшее озеро - Хайнозеро. Финское слово Хайн - означает сено. Озеро названо так по ручью, вытекающего из него, вдоль которого были покосы. Как в озере, так и в ручье, жителями города и деревни Андозеро добывался жемчуг - древний, традиционный промысел. Здесь стоит воспроизвести письмо отставного генерал-майора Ковальского министру Государственных имуществ (1860 г.): «Из озера выходит ручей под названием Хайноручей, на котором построено четыре мельницы, проходит между гор, прорезывая Архангельский почтовый тракт..., и впадает в залив моря против Крестного монастыря. Как в озере, так и в ручье находятся жемчужные раковины. В Хайнозере не занимаются ловлей жемчужных раковин, по неимению к этому способа. Ловля раковин производится в одном только ручье. Таковым занимаются крестьяне деревни Андозеро Алексей Кренев, мещане города Онеги Григорий и Иосип Степановы, Федор Радионов, Федор Гаврилов, Логинов и пр. На мелких местах, на каменном и песчаном грунте, бродя по ручью, собирают они руками лежащие раковины, в глубине ощупывают их ногами, которые зацепив между персты ног, поднимают наверх. Жемчуг бывает белого, оловянного, розового и темно-коричневого цвета, разной величины, круглый, и безобразный. Попадались иногда раковины с черными жемчужинами довольно редкой ценности. Добычу свою продают торговцам города Воробьеву и другим».
Кроме этого, жемчуг добывался по притокам реки Онеги. Некоторые жемчужины редкостной величины и красоты демонстрировались на выставках в Архангельске и в Петербурге. Жемчуг раньше особенно ценился на Севере среди женщин. Женщине, носившей жемчужные украшения, сопутствовала любовь. Считалось, что жемчуг предсказывал болезнь, носящему его человеку, тускнея, а после смерти человека, его жемчуг терял все свои качества, умирая вместе с хозяином.
Промышленность… Первыми лесозаводами были пильные мельницы, выстроенные в амбарах в устьях речек Анда и Поньга, имевших плотины. С появлением паровых машин старые заводы были переделаны и получили название паровых лесозаводов. Дадим характеристику одного из заводов - Поньговского Парового лесопильного завода в 1889 году, приведя выдержку из одного документа: «Среднее число рабочих 220 мужчин, 44 женщины, 15 мальчиков. На заводе 80 мужчин, 8 женщин, 6 мальчиков. На стороне 140 мужчин, 32 женщины, 9 мальчиков. Число рабочих изменялось в за¬висимости от времени года. С 1-го марта по 1-е октября оно наибольшее, а с 1-го октября по 1-е марта - наименьшее. Многие рабочие живут в городе в своих квартирах. Крестьяне уезда живут в общих заводских помещениях. Размер платы заработка взрослых от 60 копеек до 1 (одного) рубля в день, число рабочих часов в день от 8 до 12. Первый паровой локомотив для отпиливания кромок у досок действует самостоятельной машиной в 8 сил от одного парового котла. Литейный цех с одной вагранкой для отлива чугунных и медных, частей для завода. Кузница с двумя горнами для за¬водских поковок. Токарный станок. Строгательный станок, сверлильный. Завод отапливается опилком, который помещается в деревянных амбарах на каменном фундаменте, а кочегарка и машинное отделение - каменные здания. При паровом заводе мастер-машинист, получивший образование в Финляндии. Приказчик - заведующий биржевыми рабочими и скла¬дом досок (русский) обучался в Онежском уездном училище. 10 служащих заведуют работами по указанию мастера и приказчика, грамотные, обучались в Онежском уездном учи¬лище. Училищ или классов при заводе нет. Дети служащих и рабочих обучаются в Онежском уездном училище, и контора компании выделяет им пособие. Больница, находящаяся в Онеге, содержится тоже за счет конторы компании. Допускаются вклады от рабочих, мастеровых и служащих, ежемесячно после выдачи жалования не менее одного рубля и не более 1000 рублей. Контора платит вкладчикам по 6 процентов годовых. Завод выстроен в 1887 году. Сбыт производится за границу в Англию, Францию и Норвегию и на внутреннее употребление в России, В течение года распилено 126547 сосновых и еловых бревен длиною 9-10 аршин толщиною от 3,5 до 9,5 вершков».
К 1913 году в Онеге было 5 лесозаводов: три на Поньге и два на стороне города. Заводы принадлежали фирмам: «Бакке и Вагер», «Бакке и Виг», «Прютц и Ко», «Братья Фришенбрудер» (рисунок 2.389) [27, фото].

Рисунок 2.389 - Город Онега. Контора концессии Руснорвеголес [27, фото].
Немного о море. Далее наш путь идет на гору Шалга, за поселок ЛДК. Отсюда открывается прекрасная панорама: далеко просматривается море, хорошо виден Кий-остров, противоположный Ворзогорский берег, лесозавод в устье Онеги, а также весь город.
Название Шалга угро-финского происхождения, означает «голая, или лысая гора», «возвышенность». Это красивейшее в городе место в 1930-е годы было приспособлено под парк Культуры и Отдыха рабочих лесозаводов. На 12 гектарах поставили торговые павильоны, разбили спортивные площадки, сделали прогулочные дорожки. Старожилы вспоминают о знаменитом сооружении - лестнице на гору Шалга. Лестница состояла более чем из 200 ступеней, имела оборудованные скамейками и беседками площадки для отдыха. Ныне все разрушено, парк заброшен…
Небольшое количество сохранившихся достопримечательностей в городе с лихвой компенсируется обилием значительных памятников культуры в окрестностях Онеги, но и они не вечны. В заключение можно сказать, что до революции Онега естественно, органично жила наравне со своим веком, отдавая должное как техническому прогрессу, так и древним традициям. Лишь критически осмысливая познаваемую историю, до боли в душе внезапно понимаешь, что мы потеряли в угоду идолопоклоннической пляске вокруг нового, плохо понятого, да вовсе непонятого монумента. Январь - февраль 1991 г. г. Онега» [27].
Для общей характеристики Онежской групповой системы населенных мест интерес также представляют сведения, собранные краеведом С. Головченко и представленные на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Поньга» (рисунок 2.390) [82, фото].

Рисунок 2.390 - Деревня Поньга Онежского района Архангельской области. Церковь Святых Апостолов Петра и Павла, построенная при Поньгском лесопильном заводе Компании Онежского Лесного Торга в 1897-1898 годах. Фотография из фондов Онежского краеведческого музея (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
«На этой фотографии из фондов Онежского музея мы можем видеть церковь Святых Апостолов Петра и Павла, построенной при Поньгском лесопильном заводе Компании Онежского Лесного Торга в 1897-98 годах. Этот храм был сооружен на средства тогдашнего Управляющего лесопильным заводом Василия Михайловича Телятьева, Почетного гражданина нашего города, на берегу р. Онеги, в полукилометре ниже устья р. Поньги (теперь это территория бывшего лесопильного завода № 34).
Церковь была деревянная, обшитая тесом, с колокольней, с железной крышей. Иконостас изготовил архангельский иконописный мастер Терентьев. На колокольне располагались четыре колокола, самый большой из которых весил 5,5 пудов (88 кг). Освящение храма произошло 11 августа 1898 года, об этом событии писала газета «Архангельские епархиальные ведомости» под № 19. Сам В.М. Телятьев не дожил до этого дня. На освящении присутствовал уже новый Управляющий Константин Башмаков.
Церковь была приписана к Онежскому Свято-Троицкому собору, священники которого и служили в ней по надобности. После революции здание церкви было перевезено на другое место. Что с ним стало потом - у автора (С. Головченко) нет достоверных сведений.
В настоящее время л\з № 34 закрылся, перестали работать и сопутствовавшие ему производства. У жителей возникли проблемы с трудоустройством» [82].
Также необходимо упомянуть о сведениях, представленных на портале «Onegaonline.ru» в виде набора фотографий общего вида деревни Поньга и церкви Святых Апостолов Петра и Павла, построенной при Поньгском лесопильном заводе Компании Онежского Лесного Торга в 1897-1898 годах, а также шатровой часовни, наименование и время постройки которой остались неизвестными (рисунки 2.391-2.415) [82, фото].

Рисунок 2.391 - Деревня Поньга. «Онега. - Onega. № 25. Лесопильный заводъ Ко. Онежскаго Леснаго Торга. Onega Wood Co.» (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.392 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.393 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.394 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.395 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.396 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.397 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.398 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.399 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.400 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.401 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.402 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.403 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.404 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.405 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.406 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.407 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.408 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.409 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.410 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.411 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.412 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.413 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.414 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].

Рисунок 2.415 - Деревня Поньга (автор съемки неизвестен, 2013 г.) [82, фото].
Интерес также представляет фотография общего вида деревни Легашевская – п. Легашевская - Запань, представленной на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Легашевская» (рисунок 2.416) [82, фото].

Рисунок 2.416 - Деревня Легашевская - п. Легашевская - Запань. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
В перспективе Онежская групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.1.14 Петровско-Сидоровская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
Петровско-Сидоровская групповая система населенных мест находится в южной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 60 км к югу от районного центра - города Онеги и на расстоянии 5 км к западу от деревни Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская - административного центра Устькожской сельской администрации.
Петровско-Сидоровская ГСНМ расположена у места слияния рек Кожи и Сывтуги и ранее состояла из трех поселений, в число которых входили деревни Петровская - Петровское - Верхний Двор - Верхний двор на р. Коже (1) и Филипповская - Филиповская - Филимоновская - Кислуха (2), находящиеся на левом (северном) берегу в излучине реки Кожи, а также деревни Сидоровская - Сидорово (3) и Ефимовская - Остров (4), находящиеся на правом (восточном) берегу реки Сывтуги, впадающей с юга в реку Кожу, напротив деревни Филипповская - Филиповская - Филимоновская - Кислуха (рисунки 2.1, 2,4, 2.83, 2,143, 2.214, 2.417-2.418) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 46, с. 170, рис. 3а.Д; 48, с. 68, рис. 1; 57, карты; 55, с. 22; 82, карты]. При этом необходимо отметить, что деревня Петровская была зафиксирована в свое время на карте под названием «Положение мест между городом Архангельском, Санкт-Петербургом и Вологдой», изданной в 1745 году и опубликованной на портале «Onegaonline.ru» (рисунок 2.148) [82, карта], а на период 1984 года все четыре упомянутых поселения значились уже утраченными [5, с. 93].
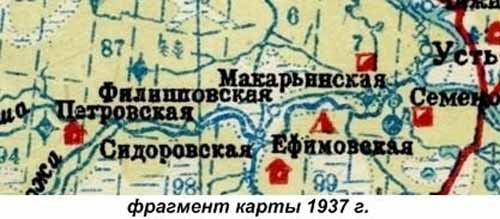
Рисунок 2.417 - Петровско-Сидоровская ГСНМ (фрагмент карты «Онежский район Северной области», масштаб 1:500000, изд. ГУГСиК, НКВД СССР, 1937 г.) [82, карта].

Рисунок 2.418 - Деревня Петровская - Петровское - Верхний Двор - Верхний двор на р. Коже Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1991 г.) [57, карта].
К фрагменту топографической карты окрестностей деревни Петровская - Петровское - Верхний Двор - Верхний двор на р. Коже 1970-х годов, опубликованной на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Петровская», приложена фотография, выполненная неизвестным автором (рисунок 2.419), с пояснением, взятым из статьи краеведа П.И. Носкова «Что временем сокрыто», опубликованной в 1983 году в газете «Советская Онега» [54].
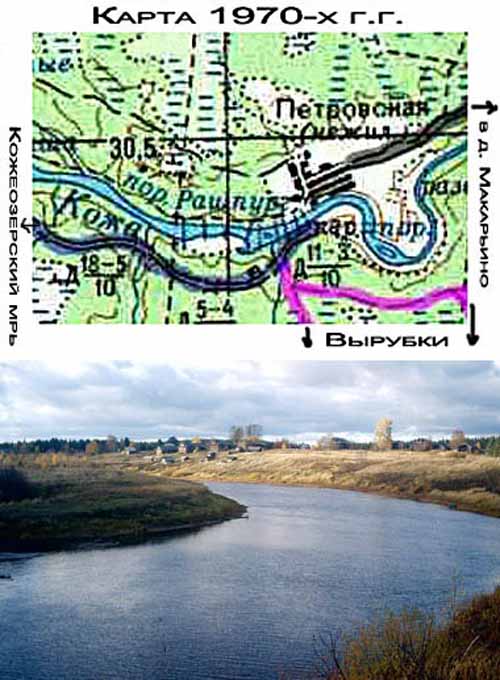
Рисунок 2.419 - А - Деревня Петровская - Петровское - Верхний Двор - Верхний двор на р. Коже Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1970-х гг.); Б - Деревня Петровская - Петровское - Верхний Двор - Верхний двор на р. Коже. Онежского района Архангельской области. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
«Верхний Двор - деревня (также Петровская) на реке Коже. Название Верхний Двор происходит, видимо, от того, что эта деревня - монастырское подворье Соловецкого монастыря, возникшее с целью устройства семужьего забора на реке Коже. История утверждает: один из основателей Соловецкого монастыря в лето 1435 года монах Герман «отъехал ради потребы на Онегу». С тех пор Соловецкий монастырь ловил здесь рыбу (И. Лепихин, 1772 год).
Река Кожа считалась вотчиной Соловецкого монастыря, который противился ловле рыбы на его владениях, но Кожеозерский монастырь не подчинялся. И только в 1681 году 22 апреля по ссудной грамоте «кожанский забор» перешел в ведение Кожеозерского монастыря. Этого, правда, могло и не быть, но волнения на Соловках в течение 8 лет (1668-1676 гг.), неподчинение царской власти, унизило роль монастыря. Название Петровская образовалось от личного имени первожителя» [54].
Сведения о деревне Петровская - Петровское - Верхний Двор - Верхний двор на р. Коже содержатся также в статье архитектора П.П. Медведева «Некоторые особенности объемно-планировочных структур сельских поселений Беломорского Поморья» [46]. Ее автором «на основе сводной классификационной системы были проанализированы объемно-планировочные структуры 101 традиционного сельского поселения Беломорского Поморья (Мурманская область - 15; КАССР - 25; Архангельская область - 61) (рис. 2). Результаты анализа, проведенного на первом классификационном уровне (уровень типологических групп), включающем сельские поселения со свободной (01,1), замкнутой (01,2), рядовой (01,3), уличной (01,4) и смешанной (01,5) объемно-планировочной структурой, сведены в табл. 1 (прим. 10 - Здесь и в дальнейшем для обозначения типологических групп, их вариантов и подварнантов используются математические символы («индексы») кодификатора, применяемого для обработки данной информации на ЕС ЭВМ. Подробнее о системе кодификации см.: Орфинский В.П. Метод кодирования в изучении памятников деревянного зодчества русского Севера / Карельский ЦНТИ, Информ. листок № 11. - Петрозаводск, 1977 [61])» (рисунки 2.324, 2.420) [46, с. 169, рис. 2, с. 170, рис. 3а].
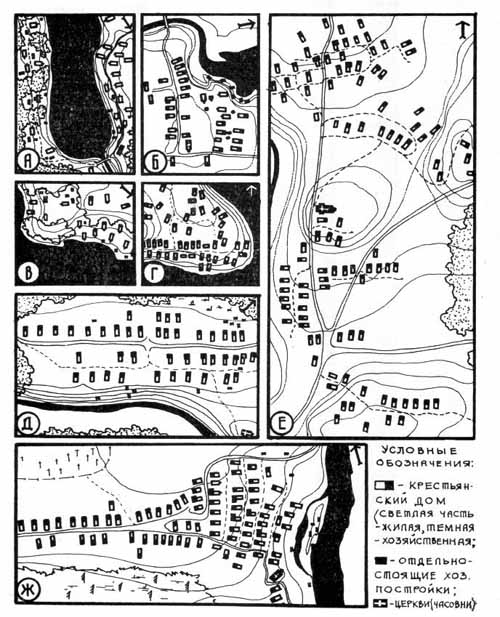
Рисунок 2.420 - Схема объемно-планировочных структур сельских поселений Беломорского Поморья (А-Ж). А - деревня Колвица (Кандалакшский район Мурманской области); Б - деревня Поньгома (Кемский район КАССР); В - деревня Травяная Губа (Кандалакшский район Мурманской области); Г - село Чапома (Терский район Мурманской области); Д - деревня Петровское (Онежский район Архангельской области); Е - село Вонгуда (Онежский район Архангельской области); Ж - село Солза (Приморский район Архангельской области) [46, с. 170, рис. 3а].
Дополнить приведенную выше характеристику позволяют также статистические данные, опубликованные на портале «Onegaonline.ru» в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [82]. Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о деревне Петровская, правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 235; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о деревне Петровская, в которой на этот момент насчитывалось 17 дворов, в которых проживало 107 человек (48 - мужского и 59 - женского пола) [82; 92, с. 44].
В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о деревне Петровская (Верхний двор). В этот период времени деревня относилось к Мардинской волости Кожского сельского общества и соответственно к Кожскому церковному приходу. Количество жилых дворов на данный момент составляло 28 единиц. Количество населения: мужского пола - 83, женского пола - 86 (всего 169 человек) [14, с. 170-171; 82]. А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о деревне Петровская (Верхний двор) и в ней к этому моменту насчитывалось 37 дворов, в которых проживало 196 человека обоего пола [82; 93, с. 16].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» имеется упоминание о деревне Петровская (Верхний двор). В данное время село относилось к Кожской волости Кожского сельского общества и по переписи 1920 года в ней насчитывалось 37 дворов, а количество населения: мужского пола - 64, женского пола - 95 (всего 159 человек) [82; 94, с. 86]. В результате укрупнения волостей в 1924 году деревня Петровская вошла в состав Кожского сельского общества Чекуевской волости Онежского уезда [82; 95, с. 28-29].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о деревне Петровская, входящей в состав Усть-Кожского сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 345; 82].
Дополнить приведенную выше характеристику позволяют и фотоиллюстративные материалы, опубликованные на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Петровская» и снятые неизвестным автором в 2005 году (рисунки 2.421-2.427) [82, фото].

Рисунок 2.421 - Деревня Петровская - Верхний двор. Утро. Ушли за клюквой (автор съемки неизвестен, 2005 г.) [82, фото].

Рисунок 2.422 - Деревня Петровская - Верхний двор. Центральная часть (автор съемки неизвестен, 2005 г.) [82, фото].

Рисунок 2.423 - Деревня Петровская - Верхний двор. Древние дома. Восточная окраина (автор съемки неизвестен, 2005 г.) [82, фото].

Рисунок 2.424 - Деревня Петровская - Верхний двор. Дом Алексея Чирцова (автор съемки неизвестен, 2005 г.) [82, фото].

Рисунок 2.425 - Деревня Петровская - Верхний двор. Здесь стояла Петропавловская церковь (1854 г.). Использовалась под клуб. Сгорела в середине 1970-х гг. (автор съемки неизвестен, 2005 г.) [82, фото].
Рисунок 2.426 - Деревня Петровская - Верхний двор. Свято-Духовская часовня (1863 г.). Уже бы упала (автор съемки неизвестен, 2005 г.) [82, фото].

Рисунок 2.427 - Деревня Петровская - Верхний двор. Свято-Духовская часовня (1863 г.). Стоит в 200-х м от деревни, ниже по течению р. Кожи (автор съемки неизвестен, 2005 г.) [82, фото].
Характеризуя деревню Петровская - Петровское - Верхний Двор - Верхний двор на р. Коже, следует, во-первых, упомянуть о сведениях из: «Краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской епархии» 1896 года [36], согласно которым становится известно, что «Кожский приход состоит из 8 деревень; 7 из которых расположены по берегам р. Кожи (лев. приток р. Онеги) и одна - за р. Онегою. Два приходских храма находятся в д. Макарьинской, прочие селения отстоят от них: одно - в одной версте, другое - в 2,5 вер-х, за р. Онегою, три - в 8 верстах и одно - в 12 верстах. От г. Архангельска приход удален на 285 верст, от г. Онеги - на 55 верст, от ближайших приходов: Корельскаго - на 14,5 в., Чекуевскаго, в котором находится почтовое отделение - на 18 в. Жителей к 1895 г.: 466 м.п. и 493 ж.п., дворов - 168.
Кожский приход образовался в 1695 г. В настоящее время (1895 г.) в нем два приходских храма и два приписных. Все они деревянные и 1-престольные, в плане - в форме креста. Из приходских храмов один Крестовоздвиженский, устроенный в 1769 г., 5-главый, обшит тесом и окрашен, другой - в честь св. Климента, папы Римскаго, устроенный в 1695 г., шатровый, также обитый тесом и окрашенный. Имеется отдельно стоящая колокольня, устроенная в 1695 г., тоже обитая и окрашенная. Из приписных - один в честь Препод. Никодима Кожеозерскаго, в д. Чирковской (Усть-Кожа) в 2,5 в-х от приходских храмов, устроенная в 1883 г. из часовни, и другой - в ч. св. Апостолов Петра и Павла, в д. Петровской, в 12 в-х от приходских храмов, устроенный в 1854 г.» [36; 82].
Интерес также представляют сведения, представленные в работе краеведа Г.Б. Дерягина «Окрестности Онеги», опубликованной на портале «Sudmed-nsmu.narod.ru» [25]. В своей работе ее автор писал, что возле деревни Чижиково река Онега «разветвляется на два рукава, огибающих 20-километровый остров. Один рукав называется «Большая Онега», по которому мы будем следовать, а второй рукав носит название «Малая Онега». В него впадает река Кожа, в устье которой стоит древнее село Усть-Кожа. Из этого села вдоль берегов реки Кожи (наиболее крупного притока Онеги) к истокам Кожи, в Кожозерский монастырь идет так называемая Монастырская дорога длиной 60 км.
Начало пути от Усть-Кожи к монастырю было отмечено замечательным ансамблем деревянного зодчества в селе Макарьинском, которое являлось центром Кожского прихода. Кожский приход имел 168 дворов, жителей там насчитывалось 959 человек на 8 деревень. В селе Макарьинском стоял классический онежский тройник: церковь Св. Климента, папы Римского, освященная в 1659 году, Крестовоздвиженская церковь поставленная в 1769 году. Между ними в XVII веке срубили колокольню. Кроме того, в деревне Петровской в 1854 году поставили церковь Св. Петра и Павла, а в деревне Чирковской в 1883 г. (в 2,5 верстах от Макарьинской) - храм Преподобного Никодима!» [25].
Сведения о деревне Петровская - Петровское - Верхний Двор - Верхний двор на р. Коже имеются, в частности, и в статье краеведа А.Я. Привалихина, опубликованной на портале «Onegaonline.ru» [82]. «К Макарьинскому приходу было приписано 8 деревень - Чижиково, Усть-Кожа, Макарьино, Глотово, Кислуха, Остров, Сидоровская, Верхний Двор (Петровская). Центром прихода был Макарьинский погост (погост на р. Коже)» [82].
Наконец, необходимо отметить, что деревня Петровская - Петровское - Верхний Двор - Верхний двор на р. Коже ранее относилась к категории акцентированных поселений, поскольку в ней существовала Петропавловская церковь (в честь святых Апостолов Петра и Павла, Святого Петра и Павла), построенная в 1854 году, а также Свято-Духовская часовня, возведенная в 1863 году [25; 36; 82].
Дополнить приведенную выше характеристику Петровско-Сидоровской групповой системы населенных мест позволяют также статистические данные, опубликованные на портале «Onegaonline.ru» в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [82].
Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о деревне Филипповская (Филиповская), правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 235; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о деревне Филиповская (Филимоновская), в которой на этот момент насчитывалось 4 двора, в которых проживало 56 человек (20 - мужского и 36 - женского пола) [82; 92, с. 44]. В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о деревне Филимоновская (Кислуха). В этот период времени деревня относилось к Мардинской волости Кожского сельского общества и соответственно к Кожскому церковному приходу. Количество жилых дворов на данный момент составляло 22 единицы. Количество населения: мужского пола - 57, женского пола - 68 (всего 125 человек) [14, с. 170-171; 82]. А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о деревне Филимоновская и в ней к этому моменту насчитывалось 23 двора, в которых проживало 122 человека обоего пола [82; 93, с. 16].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» имеется упоминание о деревне Филипповская (Филимоновская, Кислуха). В данное время село относилось к Кожской волости Кожского сельского общества и по переписи 1920 года в ней насчитывалось 27 дворов, а количество населения: мужского пола - 43, женского пола - 65 (всего 108 человек) [82; 94, с. 78]. В результате укрупнения волостей в 1924 году деревня Филипповская вошла в состав Чекуевской волости Онежского уезда [82; 95, с. 28-29].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о деревне Филимоновская, входящей в состав Усть-Кожского сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 345; 82].
Необходимо также отметить, что на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Макарьино» приведена фотография неизвестного автора, выполненная в 2005 году с изображением последней постройки, оставшейся от полностью исчезнувшей деревни Филипповская - Филиповская - Филимоновская - Кислуха (рисунок 2.428) [82, фото].

Рисунок 2.428 - Здесь была д. Филимоновская (Кислуха) (автор съемки неизвестен, сентябрь 2005 г.) [82, фото].
Необходимо отметить, что в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание и о деревне Сидоровская, правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 235; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о деревне Сидоровская, в которой на этот момент насчитывалось 17 дворов, в которых проживало 52 человека (29 - мужского и 23 - женского пола) [82; 92, с. 44].
Позднее в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о деревне Сидоровская. В этот период времени деревня относилось к Мардинской волости Кожского сельского общества и соответственно к Кожскому церковному приходу. Количество жилых дворов на данный момент составляло 17 единиц. Количество населения: мужского пола - 49, женского пола - 44 (всего 93 человека) [14, с. 170-171; 82]. А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о деревне Сидоровская и в ней к этому моменту насчитывался 21 двор, в которых проживал 91 человек обоего пола [82; 93, с. 16].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» имеется упоминание о деревне Сидоровская. В данное время село относилось к Кожской волости Кожского сельского общества и по переписи 1920 года в ней насчитывалось 20 дворов, а количество населения: мужского пола - 27, женского пола - 40 (всего 67 человек) [82; 94, с. 78]. В результате укрупнения волостей в 1924 году деревня Сидоровская вошла в состав Чекуевской волости Онежского уезда [82; 95, с. 28-29].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о деревне Сидоровская, входящей в состав Усть-Кожского сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 345; 82].
В свою очередь в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», также имеется упоминание о деревне Ефимовская, правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 233; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о деревне Ефимовская, в которой на этот момент насчитывалось 4 двора, в которых проживало 26 человек (10 - мужского и 16 - женского пола) [82; 92, с. 44].
Деревня Ефимовская (Остров) упоминаетсчя и в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году. В этот период времени деревня относилось к Мардинской волости Кожского сельского общества и соответственно к Кожскому церковному приходу. Количество жилых дворов на данный момент составляло 12 единиц. Количество населения: мужского пола - 30, женского пола - 33 (всего 63 человека) [14, с. 170-171; 82]. А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о деревне Ефимовская (Остров) и в ней к этому моменту насчитывалось 17 дворов, в которых проживало 89 человек обоего пола [82; 93, с. 16].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» имеется упоминание о деревне Ефимовская (Остров). В данное время село относилось к Кожской волости Кожского сельского общества и по переписи 1920 года в ней насчитывалось 17 дворов, а количество населения: мужского пола - 29, женского пола - 50 (всего 79 человек) [82; 94, с. 77]. В результате укрупнения волостей в 1924 году деревня Ефимовская вошла в состав Чекуевской волости Онежского уезда [82; 95, с. 28-29].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о деревне Ефимовская, входящей в состав Усть-Кожского сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 345; 82].
Дополнить характеристику деревни Ефимовская (Остров) позволяют данные, опубликованные в работе историка и краеведа Г.П. Гунна «Каргополье - Онега», изданной в 1974 году [20]. «Выше по течению реки Кожи встретится нам еще один интересный памятник деревянного зодчества - часовня в деревне Остров. Это клетская постройка с клинчатой кровлей, с широким выносом полиц над повалом. К ней прирублен притвор, увенчанный звонницей на четырех столбах. Удивляет крупная главка на широкой и высокой шейке, кажущаяся несоразмерной при близком рассмотрении, но совсем иначе воспринимаемая издали. Она сообщает скромному сооружению импозантность» [20, с. 123-126].
В перспективе Петровско-Сидоровская групповая система населенных мест мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.1.15 Пирзапелдо-Кириловская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
Пирзапелдо-Кириловская групповая система населенных мест находится в южной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 73 км к югу от районного центра - города Онеги и на расстоянии 18 км к северо-востоку от деревни Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская - административного центра Устькожской сельской администрации.
Пирзапелдо-Кириловская ГСНМ расположена на правом (восточном) и левом (западном) берегах в излучине правого большого рукава реки Онеги. На правом (восточном) берегу находится деревня Пирзапелда - Пирзопельда - Кирилловская (1) и через нее проходит транзитная гужевая дорога, идущая от деревни Андреевская - Низ - Андривская к деревне Октябрьская - Ощиринская - Ощеринская - Оширинская - Малая сторона, а на левом (западном) берегу - деревня Кириловская - Кирилловская (2) (рисунки 2.1-2.5, 2.429) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 22; 82, карты].
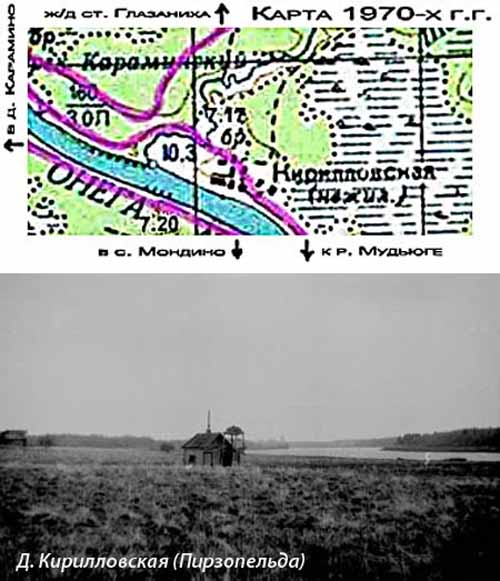
Рисунок 2.429 - А - Деревня Пирзопельда - Кирилловская Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1970-х гг.); Б - Деревня Пирзопельда - Кирилловская Онежского района Архангельской области. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
Пирзапелдо-Кириловская групповая система населенных мест относится к категории акцентированных ГСНМ, поскольку в деревне Пирзопельда - Кирилловская имеется деревянная часовня Святых Апостолов Петра и Павла, построенная в XIX веке (по другим источникам - в конце XVIII или в начале XIX века) [25; 82].
Характеризуя Пирзапелдо-Кириловскую ГСНМ, следует упомянуть о работе краеведа Г.Б. Дерягина «Окрестности Онеги», опубликованной на портале «Sudmed-nsmu.narod.ru» [25]. В своей работе ее автор писал, что «на правом берегу Онеги, недалеко от Каменской стоит деревня Кирилловская, в которой в конце XIX века жило всего 76 человек. Там в 1914 году родилась и жила в огромной крестьянской семье до раскулачивания всех жителей деревни моя бабушка Кучепатова (в девичестве Ершова) Парасковья Ивановна. Имеется здесь покосившаяся от времени часовня Святых апостолов Петра и Павла, поставленная в конце XVIII или в начале XIX века. Крыша часовни двухскатная, к самой же часовне примыкают притвор и небольшая звонница с куполом, на котором ранее находился штырь. Привлекают внимание жилые постройки, несмотря на то, что сейчас деревня полностью заброшена, некогда богатые двухэтажные дома стоят пустые, но до сих пор крепкие. Избы здесь все двухэтажные, с огромными хозяйственными пристройками - дворами. В безмолвном величии застыли дома с пустыми глазницами окон, срубленные в XIX веке, казалось бы, на века» (рисунок 2.430) [25, фото].

Рисунок 2.430 - Часовня Святых апостолов Петра и Павла (XVIII в.) в д. Кирилловская (фото Г.Б. Дерягина, 1980 г.) [25, фото].
Дополнить приведенную характеристику Пирзапелдо-Кириловской групповой системы населенных мест позволяют также фотографии, представленные на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Пирзопельда», шесть из которых выполнены Н. Сидоровой (Онега) в июне 2008 года (рисунки 2.431-2.437) [82, фото].

Рисунок 2.431 - Деревня Пирзопельда - Кирилловская. Призрак. На этот год деревня уже нежилая (автор фото неизвестен, 1990 г.) [82, фото].

Рисунок 2.432 - Деревня Пирзопельда - Кирилловская. Вид с р. Бол. Онега (фото Н. Сидоровой (Онега), июнь 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.433 - Деревня Пирзопельда - Кирилловская. Западная окраина (фото Н. Сидоровой (Онега), июнь 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.434 - Деревня Пирзопельда - Кирилловская. Остатки деревни (фото Н. Сидоровой (Онега), июнь 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.435 - Деревня Пирзопельда - Кирилловская. Часовня Святых Апостолов Петра и Павла. XIX в. Вид с юго-запада (фото Н. Сидоровой (Онега), июнь 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.436 - Деревня Пирзопельда - Кирилловская. Часовня Святых Апостолов Петра и Павла. XIX в. Вид с северо-запада (фото Н. Сидоровой (Онега), июнь 2008 г.) [82, фото].
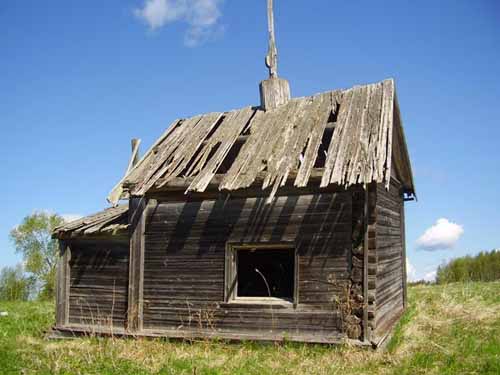
Рисунок 2.437 - Деревня Пирзопельда - Кирилловская. Часовня Святых Апостолов Петра и Павла. XIX в. Вид с юга (фото Н. Сидоровой (Онега), июнь 2008 г.) [82, фото].
Интерес также представляют сведения, опубликованные на портале «Малые Острова России» в разделе «Острова деревянные» [65]. «После разделения Онеги и до впадения Мудьюги островной берег нежилой, но дома, видимо, используются рыбаками. Света у них нет. В деревне Мондино света нет, но есть два-три относительно жилых дома. Кирилловская у Шомборучья нежилая, виден сгнивший сруб и вроде целый сруб бани - возможно, охотничий домик. Октябрьская без света, но жилая. Карамино и Каменное жилые. Чижиково на слиянии Онеги жилое, Корельское тоже. Через пару километров после Корельского становится видно сотовую вышку в Пороге. Соответственно, есть связь. Церковь в Мондино: чуть не в лучшем состоянии из всех построек деревни, церковь в Каменном: скрыта зеленью, в хорошем состоянии, церковь на Жеребцовой Горе: стоит, красивая. Все фотографии: Ссылка на альбом. Зарегистрирован: 26.02.2006» [65].
В перспективе Пирзапелдо-Кириловская групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.1.16 Подпорожская ГСНМ, Кокоринская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
Подпорожская групповая система населенных мест находится в центральной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 15 км к югу от районного центра - города Онеги и на расстоянии 10 км к северу от села Порог (дд. Большая Сторона и Порожская) - административного центра Кокоринской сельской администрации.
Подпорожская ГСНМ расположена на левом (юго-западном) и правом (северо-восточном) берегах в излучине реки Онеги и состоит из семи населенных пунктов. В их числе расположенные на левом (восточном) берегу реки Онеги деревни Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская (1) и Средний Двор - Медведевская (2), сросшиеся в единое поселение, именуемое местными жителями Подпорожье, а также находящаяся на юго-востоке деревня Грибановская - Грибаниха (3) и расположенные далее к северу деревни Лахтинская - Лахта - Заручье (4) и Наумовская - Подтайбола - Подтайболье - Потайболье (5). В свою очередь на правом (западном) берегу реки Онеги находятся деревни Сафроновская - Софроновская - Машелиха - Мошалиха (6) и Амосовская - Камениха (7) (рисунки 2.1, 2.30, 2.79, 2.83, 2.91, 2.92, 2.151, 2.438-2.444) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 11, с. 134-135; 16; 18, с. 200, 203-204, рис., с. 404, прим. 32; 20, с. 126-128; 21, с. 144-146; 24; 25; 28, с. 147; 33, с. 260; 35, с. 278; 36, с. 46; 43; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 22; 52; 57, карты; 63, с. 55-57, рис. 1.55.б, c. 67-69, рис. 1.65; 66; 82, карты; 98, карта; 107, с. 13, рис. 1, с. 64-65, 67, рис. 28, с. 112-113, 118-120, рис. 76-81, с. 143, рис. 107, Л].
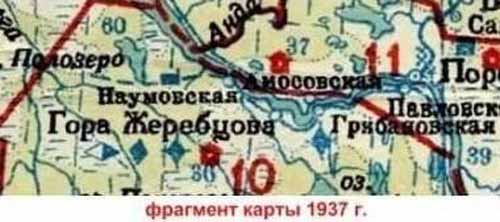
Рисунок 2.438 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1937 г.) [82, карта].
На период полевых работ Историко-архитектурной экспедиции Петрозаводского государственного университета 1987 года в деревне Гора - Гора Жеребцова - Погост насчитывалось 14 жилых домов, а еще три дома к этому времени были уже утрачены, в деревне Средний Двор - Медведевская - 13 жилых домов, а еще один дом к этому времени был уже утрачен, в деревне Грибановская - Грибаниха - 18 жилых домов, в деревне Лахтинская - Лахта - Лехта - Заручье - 9 жилых домов, в деревне Наумовская - Подтайбола - Подтайболье - Потайболье - 14 жилых домов, а 6 домов к этому времени были уже утрачены. Наконец, в деревне Амосовская - Камениха насчитывалось 29 жилых домов.

Рисунок 2.439 - Фотовид из центральной главы (Владимирская церковь 1757 г.) в сторону левобережной части с. Подпорожье, д.д. Гора Жеребцова, Лахта, Медведевская, Наумовская (автор съемки неизвестен, сентябрь 2006 г.) [82, карта].

Рисунок 2.440 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1937 г.) [82, карта].

Рисунок 2.441 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1970-х гг.) [82, карта].
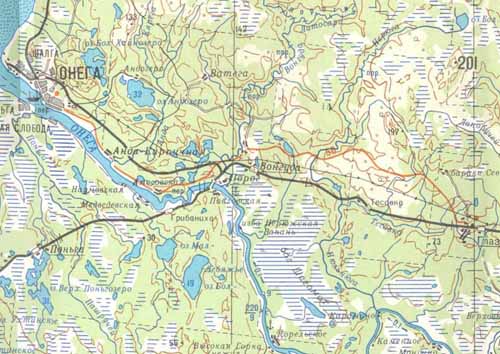
Рисунок 2.442 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1991 г.) [57, карта].

Рисунок 2.443 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1991 г.) [57, карта].
Архитектурно-типологическое описание планировки и застройки Подпорожской ГСНМ, содержащееся в формуле «К1/2(2)(01.7->01.4), ПК1/1, Т3/2(1), ПТ4:[ПТ1+ПТ2], В4/_(1):[В2/1(1)+В3/1(1)], ПВ3/2(3)(01.1)(02.1), Р1», приведено в приложении А и в таблице Б.1.
Дополняя выше приведенную характеристику Подпорожской групповой системы населенных мест, следует, во-первых, упомянуть о сведениях из «Краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской епархии» 1896 года [36], согласно которым становится известно, что «Подпорожский приход, расположенный ниже «Порога» на реке Онеге, в 25 верстах от ее устья, состоит из 7 селений, находящихся по обоим берегам реки, а именно: на левом берегу Гора Жеребцова с приходскими в ней храмами, Лахтинская и Медведевская «Средний Двор» - в 0,5 версты от приходских храмов, Наумовская (Потайболье) - в 2-х верстах ниже по течению, Грибановская (Грибаниха) - в 2-х верстах выше по течению; на левом берегу - Амосовская (Камениха), напротив приходских храмов и Софроновская (Машелиха) - в 2-х верстах. Жителей в них к 1896 году состояло 549 м.п. и 683 ж.п. В последних 5-ти деревнях - часовни. Расстояние от прихода до Архангельска - 248 верст, до Онеги - 15 верст, до ближайшего, Порожского прихода - 9 вёрст. Время образования прихода неизвестно, но, несомненно то, что он древний; со времени устроения Крестнаго монастыря он был в его ближайшем ведении.
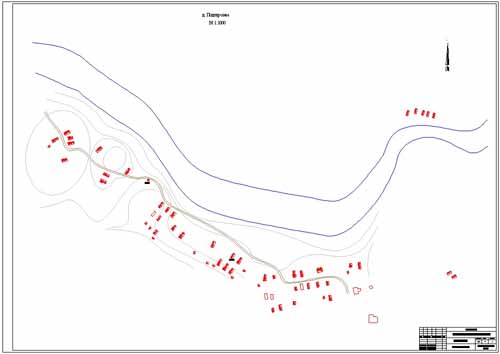
Рисунок 2.444 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье, Кокоринская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
Первый из известных храмов прихода - во Имя Св. Троицы с приделами: Богоявленским, Никольским и в честь Параскевы Пятницы устроен и освящён по грамотам Новгородских митрополитов Питирима и Корнилия. Храм этот сгорел в 1724 г. По просьбе прихожан во главе «с Троицким попом Подпорожской волости Евстратием Алексеевым и церковным старостою Распутиным», указом Св. Синода от 1725 г. на имя наместника Крестнаго монастыря, Иеромонаха Сергия, предписано позаботится о постройке на прежнем погорелом месте новой деревянной церкви во Имя Св. Троицы «с единым престолом, а четырех приделов не строить». Эта церковь, существующая поныне (1896 г.), по благословению Преосвященнаго Феодосия, архиеписк. Великоновгородскаго и Великолуцкаго, была освящена 16 мая 1727 г. С течением времени к ней был пристроен теплый Богоявленский придел.
Вместо сгоревших приделов: Никольского и Параскевичского, в период с 1745 (по М. Красовскому, заложена в 1741 г. - С. Головченко) по 1757 гг. устроена была отдельная церковь, существующая до настоящего времени (1896 г. и на 2004 г.) и именуемая ныне Владимирскою. Церковь заложили по благословению архиеписк. Новгородскаго Стефана, по просьбе церк. старосты Федора Андреевича Амосова и Степана Алексеевича Попова, из которых последний, по воспоминаниям старожилов, выделил средства на постройку. Освящена была церковь 23 октября 1757 г. по благословению того же Владыки и на имя архимандрита Крестнаго монастыря Адриана.
Таким образом, в описываемом приходе два храма: Свято-Троицкий с Богоявленским приделом и Владимирский с приделами: Николая Чудотворца и Св. ВЛКМ Параскевы. Оба храма и колокольня, устроенная по указу от 31.10. 1847г. (?-С.Г., в этом году (по Ю.С. Ушакову) шатёр был заменен на купол), деревянные, обшиты тесом и окрашены, в 1884 г. (? - С. Головченко, на фото В.В. Суслова, 1886 г., видны подпорки, поддерживающие часть ограды - ограда ещё старая ?) обнесены дерев. оградой. Берег у Троицкой церкви каждый год все более и более подмывает, что представляет угрозу храму, хотя сами по себе обе церкви еще прочны.
Утварью, ризницей и богослужебными книгами обе церкви достаточны. Средствами к их содержанию служат: кружечно-кошельковый сбор (на 1895 г. - 45 р.), прибыль от продажи свечей (3 пуда 15 ф.) и проценты с капитала, пожертвованного ныне покойным крестьянином Петром Таразановым.
Часовни Подпорожского прихода (дополнение из архива ОИММ, д. № 250).
1. д. Амосовская (Камениха). Часовня Собор Архангела Михаила, 1776 г. постройки. В 1 версте от церкви за р. Онегой. Крыта на два ската. Вышины 3 сажени, внутри длины 2,5 сажени, ширины 2,5 сажени. В ней 3 окна со стеклянными окончинами и одне двери на крюках железных. Служба в ней бывает 8 ноября…(по описям 1829-1856 гг.).
2. д. Софроновская (Машелиха). Часовня Сретенья Господня, 1774 г. постройки. От церкви в двух верстах. Шатровая, с главою чешуйчатою, вышины 3,5 сажени, длины и ширины 2 печатных сажени. У часовни 2 окна со стеклянными окончинами, одне двери на крюках и петлях железных. В 1856 г. пристроена паперть. Служение в ней 2 февраля и 20 июля.
3. д. Грибановская. Часовня Рождества Богородицы, 1775 или 1725 гг. постройки. В 2-х верстах от приходских церквей. Крыта на 2 ската без главы…Вышины 3, длины внутри 2,5 печатных (1,76 м. - С. Головченко) сажени… У часовни 3 окна со стеклянными окончинами и одне двери для выходу на крюках железных…(1829 г.). Тоже вокруг часовни имеется ограда на помосте (гульбище (?) - С. Головченко), кроме восточной стороны (1856 г.) Служба в ней 8 сентября, 11 февраля и в день освящения на Власия (1853 г.).
4. д. Наумовская (Потайболье). Часовня ВЛКМ Георгия. Построена по обещанию крестьян во время скотскаго падежа. От церкви за 2 версты. При сей часовне имеется приходское кладбище (1842 г.) Покрыта на 2 ската с главою чашуйчатою. Вышины 3 сажени, в ширину 2,5, в длину с папертью 5 печатных сажен. В ней 3 окна со стеклянными окончинами и двои двери, из коих одне столярные решетчатые, а другие простые на крюках железных с замком висучим… Служба в ней бывает 23 апреля, 26 ноября и в день Сошествия Сватаго духа…(1853 г.) Причт (священник и псаломщик) владеет 2 десятинами 572 саженями пашни и 8 десятинами сенокоса, получает жалования 205 р. 80 коп., дохода 200 р.,проценты со 150 р. и незначительный сбор масла и печенаго хлеба.
В 1891 г. открыта церковно-приходская школа, с 1895г. помещающаяся в отдельном новом доме. Содержится она за счет Общества, которое платит учительнице - 120 р. в год, законоучителю - 10 р. Другие расходы на школу составляют 45 р. в год. В 1895-96 уч. году обучалось 40 мальчиков и 7 девочек.
Из бывших приходских священников с 1787 г. известны следующие: о. Андрей Иванов - с 1787 г.; о. Алексий Попов - 1788 по 1813 гг.; о. Иеремия Попов - 1814 по 1837 гг.; о Федот Никитин - 1838-39 гг.; c 1839 по 1842 гг. были входящие (по совместительству - ?) священники; о. Герасим Федоров - г. Онеги; о. Георгий Пасторов; о. Василий Фирсов - г. Онеги; протоиерей о. Иоанн Тамицкий - г. Онега; о. Иоанн Попов - Вонгудский приход; о. Василий Кочерин - с 1843 г. по 25 июня того же года; о. Александр Кононов - г. Онеги - с 25 июля по 5 ноября 1843 г.; о. Иоанн Постников - с 5 ноября 1843 г. по 30 января 1847 г.; Порожскаго прихода о. Николай Ивановский - с 1 апреля 1847 г. по 1 мая 1848 г.; о. Иоанн Ивановский - с 1 мая 1848 г. по 18 января 1885 г.; Порожскаго прихода свящ. о. Афанасий Попов - 18 января по 22 марта 1885 г.; о. Михаил Васильевский - 22 марта 1885 г. по 1892 г.
Нынешний состав причта (1896 г.): о. Аркадий Васильевский, 24 лет, окончил курс обучения в семинарии, в сане священника с 13 декабря 1892 г.; псаломщик Александр Иванов, 20 лет, уволен из 1 класса Архангельскаго дух. училища, в описываемом приходе с 5 октября 1894 г.» [36].
Интерес также представляют статистические данные, опубликованные на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Гора Жеребцова», в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [82]. Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о деревне Гора Жеребцова, правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 233; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о селе Подпорожье, в котором на этот момент насчитывалось 28 дворов, в которых проживало 145 человек (70 - мужского и 75 - женского пола). В это же время также имеется упоминание о деревне Жеребцова гора (Погост), в которой имелось 25 дворов с населением в 138 человек (65 - мужского и 73 - женского пола) [82; 92, с. 43].
В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о деревне Гора Жеребцова (Гора). В этот период времени деревня относилась к Подпорожской волости Подпорожского сельского общества и соответственно к Подпорожскому приходу. Количество жилых дворов на данный момент составляло 49 единиц. Количество населения: мужского пола - 106, женского пола - 132. (всего 238 человек) [14, с. 168-169; 82]. А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о деревне Гора Жеребцова (Гора). В это время в деревне насчитывалось 48 дворов, в которых проживал 231 человек обоего пола [82; 93, с. 18].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» в деревне Гора Жеребцова (Гора) по переписи 1920 года насчитывалось 47 дворов, а количество населения: мужского пола - 72, женского пола - 127 (всего 199 человек) [82; 94, с. 87]. В результате укрупнения волостей в 1924 году деревня Гора Жеребцова (Гора) вошла в состав Онежской волости Онежского уезда [82; 95, с. 26-27].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о деревне Гора Жеребцова, входящей в состав Подпорожского сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 346; 82].
Дополнить приведенную выше общую характеристику Подпорожсклй групповой системы населенных мест позволяют сведения, содержащиеся в книге искусствоведа И.Э. Грабаря «О русской архитектуре» [16; 18, с. 200, 203-204, 404, прим. 32]. Последний в своей книге, характеризуя деревянное зодчество Русского Севера, писал: «Удобство применения к кубу пятиглавия способствовало дальнейшему развитию этого приема. Уже пятиглавие, примостившееся по углам, является переходом к многоглавию - конечной мечте благочестивых строителей. Пятиглавый куб при крестообразной форие плана дает уже такую оживленную группу девяти куполов, какую мы имеем в замечательной Преображенской церкви в Чекуево Онежского уезда [ныне - Онежского района Архангельской обл.], построенной в 1687 году (**** - В.В. Суслов. Церковь в селе Чекуево. - Художественные сокровища России», 1901, № 4, стр. 54 [99, с. 54]).
Еще своеобразнее другая девятикупольная церковь - Владимирская в Подпорожье (прим. 32) [Онежского района Архангельской области] (стр. 204). Она построена в 1745 году (* - «Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии», вып. III, стр. 46 [36, с. 46]) по такому же крестчатому плану, но нижние ее главки врезаны не прямо в бочки, как в Чекуевской, а приподняты посредством шатров, на которые насажены шейки. Благодаря этому нижние главы теснее связались с общей группой куполов и многоглавие церкви получило особенную выразительность» [18, с. 200, 203-204, рис.].
А в примечании под номером 32 приведены следующие данные. «В настоящее время Владимирская церковь в селе Подпорожье датируют 1757 годом (С. Забелло, В. Иванов, П. Максимов. Указ. Соч., стр. 147) [28, с. 147]. Упомянутая же И.Э. Грабарем и Ф.Ф. Горностаевым [19] дата соответствует году начала строительства церкви, которое велось «в период времени от 1745 г. по 1757 г.» («Краткое историческое описание… Архангельской епархии», вып. III, стр. 46 [36, с. 46]). Приведенная в «Истории русской архитектуры» дата - 1743 год (М., 1956, стр. 333, 334) - не обоснована. Равным образом не обоснована и дата 1741 год, данная вскоре выхода в свет I тома «Истории русского искусства» М.В. Красовского («Курс русской архитектуры», ч. I, Пг., 1916, стр. 278 [35, с. 278]) [18, с. 404, прим. 32].
Сведения о Подпорожской групповой системе населенных мест и о ее храмовом комплексе можно найти также в работе архитектора Ю.С. Ушакова «Ансамбль в народном зодчестве Русского Севера: Пространственная организация, композиционные приемы, восприятие» [107, с. 40-41, табл. 2, с. 112-113, 118-120, рис. 76-81, с. 143, рис. 107, Л]. В разделе под заголовком «Приемы архитектурно-пространственной организации селений и их систематизация» Ю.С. Ушаков приводит классификационную таблицу традиционных поселений, в числе которых упомянуто село Подпорожье Онежского района Архангельской области, отнесенное им к центричным с круговым восприятием, приречным, при большой реке населенным пунктам типа «I, Б, 1, б» (рисунок 2.10) [107, с. 40-41, табл. 2].
«Село Подпорожье в нижнем течении реки Онеги - пример селения с центрической композицией при полукруговом восприятии, сложившегося.при большой реке. Это последнее крупное гнездо селений на Онеге перед ее устьем. Основная первоначальная группа селений Подпорожского погоста (деревни Подтайболье, Медведпцкая, Гора, Грибаниха) разместилась на левом берегу и имеет прибреж-но-рядовую планировку, и только сложившаяся позднее вдоль дороги Онега - Порог деревня Камениха (Амосовская) с уличной формой планировки расположилась напротив, на правом берегу. Порядки домов повторяют плавные изгибы берегового увала, отчего большая длина трех слившихся воедино деревень (Гора, Медведицкая, Подтайболье) не кажется монотонной (рис. 28)» (рисунок 2.445) [107, с. 64-65, рис. 28].
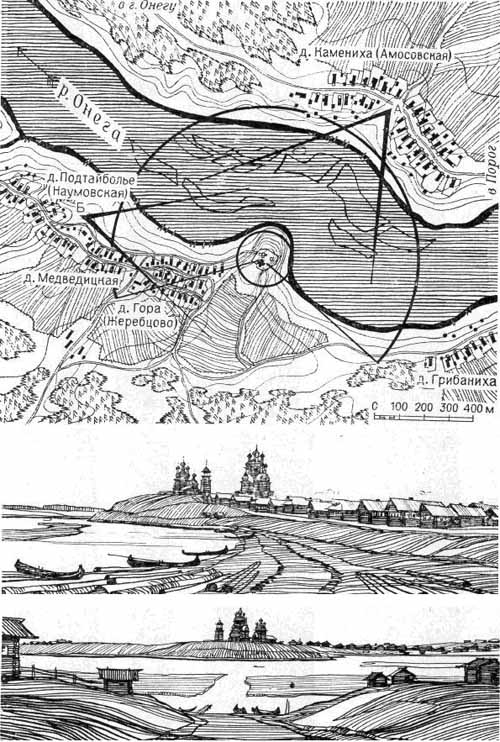
Рисунок 2.445 - Село Подпорожье, Онежский район Архангельской области. Реконструкция. План и панорамы по А и Б [107, с. 67, рис. 28].
«Ширина Онеги здесь уже достигает 500- 600 м. Это обстоятельство, несомненно, отразилось на композиционном решении и вызвало поиски высокого места для строительства храмового ансамбля с учетом дальних визуальных связей. С судов, шедших по Онеге сверху, должны были вовремя увидеть Подпорожье, так как сразу за селом начиналась 10-километровая полоса порогов, тянувшаяся до самого устья реки. Вот почему для размещения центра был выбран высокий мыс (поместному - Жеребцова Гора) высотой 22 м, хорошо обозреваемый с трех основных направлений. На этом природном основании сформировался выразительный ансамбль из двух пятиглавых церквей - Троицкой с Никольским приделом (1727 г.), Владимирской (1741 г.) и колокольни (XVIII в).
Поставленные по определенной системе * (* - О реконструкции храмового ансамбля и системах композиции общественных центров см. главу II) на разном расстоянии от берега, постройки ансамбля, венчая мыс, четко воспринимались с плесов реки и из деревень на правом и левом берегах как разнообразные силуэтные композиции. Большие расстояния обусловили и немалую высоту Владимирской церкви - 32 м (см. рис. 76-81).
Места для всех элементов гнезда селений в этой части реки найдены настолько точно, так слиты воедино природные и архитектурные компоненты, что иное решение здесь трудно найти» [107, с. 67].
В свою очередь в разделе «Ансамбли, утратившие два сооружения» Ю.С. Ушаков писал: «Остановимся на двух примерах реконструкции храмовых комплексов, сохранивших одно сооружение из традиционной триады. В 11 км от устья реки Онеги обосновалось крупное гнездо селений - Подпорожье. Первоначально село - вотчина Крестного монастыря на Кий-острове Белого моря. К концу XIX в. в гнездо входило семь деревень с населением 1232 человека [45, III, с. 45]. Ширина Онеги здесь достигает 500-600 м. Это обстоятельство отразилось на композиционном решении и вызвало поиски высокого места для строительства храма с учетом дальних визуальных связей (см. рис. 28). Это было важно еще и в связи с тем, что за селом начиналась полоса порогов. Был выбран высокий (22 м) хорошо обозреваемый мыс левого берега (Жеребцова гора), где и был срублен первый деревянный храм во имя Троицы с тремя приделами. Храм этот сгорел в 1724 г., а в 1727 г. на этом месте поставлен Троицкий однопридельный храм, крытый кубом с пятиглавием. Позднее с северной стороны был прирублен придел Богоявления с одноглавым кубом (см. рис. 80, А). Взамен же двух приделов сгоревшей церкви в 1757 г. к юго-западу от Троицкой церкви срублен был Владимирский храм с двумя приделами (рис. 80, В). К востоку от Троицкой церкви встала колокольня, сменившая в 1847 г. шатер на купол со шпилем [45, III, с. 45] (рис. 80, В).
В 1886 г. здесь побывал В. Суслов и сделал серию снимков: всего ансамбля с юго-запада (рис. 76, 80, 7), двух церквей, а также обмер Владимирской церкви (рис. 77). В 1907 г. В.А. Плотников сделал снимок ансамбля с юго-востока (рис. 78 и 80, 77).
Из построек храмового комплекса до настоящего времени сохранилась только Владимирская церковь * (* - По данным опроса местных старожилов, колокольня была разобрана в 1920-х годах, Троицкая церковь - в 1940-х. Село Подпорожье обследовано и обмерено автором в 1972 г.). Поиски следов недостающих сооружений привели к отысканию сильно заросших фундаментов из валунов Троицкой церкви и колокольни. Привязка их к существующей церкви и к берегу позволила установить их точное местонахождение, а вертикальная съемка - отметки оснований. Реконструкции Троицкой церкви помогли обмеры, проведенные экспедицией МРА АА СССР в 1940 г. (архитектор Л. Кальнинг), хранившиеся в архиве ГНИМА (рис. 79). Оставалось выяснить вертикальные размеры колокольни. С допустимой точностью это удалось сделать, сопоставляя снимки В. Суслова и В. Плотникова. Теперь можно было выполнить плановый чертеж ансамбля, фасад его с сечением по мысу (рис. 80 и 81) и проверить дальнее и ближнее его восприятие в панораме села (см. рис 28)» (рисунки 2.13, 2.446-2.451) [107, с. 112-113, 118-120, рис. 76-81, с. 142-143, рис. 107].
Следует также упомянуть и о капитальном труде архитекторов В.И. Пилявского, А.А. Тица и Ю.С. Ушакова «История русской архитектуры», опубликованном в 1984 году [63]. «Владимирская церковь с. Подпорожье в низовьях р. Онеги (Онежский район Архангельской облюю), срубленная в 1757 г., отличается еще более сложным завершением. К высокому, крытому …» [63, с. 55-57, рис. 1.55.б]

Рисунок 2.446 - Село Подпорожье, Онежский район Архангельской области. Храмовый ансамбль. Вид с юго-запада. Фото В. Суслова 1886 г. (ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина) [107, с. 118, рис. 76]
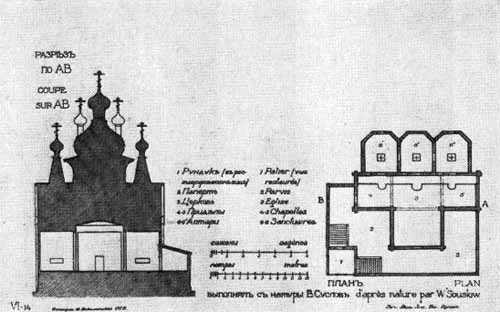
Рисунок 2.447 - Село Подпорожье. Владимирская церковь, 1741 г. Разрез и план. Обмер В. Суслова 1886 г. (ГНИМА) [107, с. 118, рис. 77]

Рисунок 2.448 - Село Подпорожье. Храмовый ансамбль. Вид с юго-востока. Фото В. Плотникова 1907 г. (ЛОИА АН СССР) [107, с. 119, рис. 78].
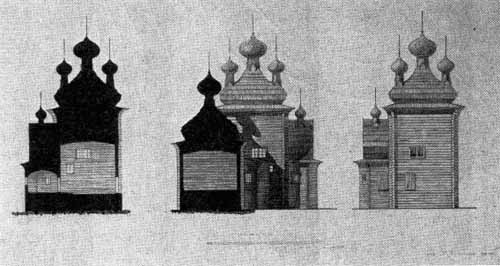
Рисунок 2.449 - Село Подпорожье. Троицкая церковь. Фасады и разрезы. Обмер архит. Л. Кальнинг, 1940 г. (ГНИМА). Публикуется впервые [107, с. 119, рис. 78].
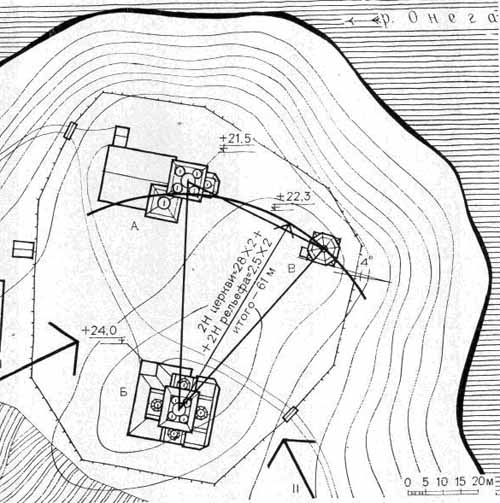
Рисунок 2.450 - Село Подпорожье. Храмовый ансамбль. Реконструкция. План с показом точек съемки. А - Троицкая церковь, 1727 г.; Б - Владимирская церковь, 1757 г.; В - колокольня, XVIII в. Точки съемки: I - В. Суслов, 1886 г.; II - В. Плотников, 1907 г. [107, с. 120, рис. 80].
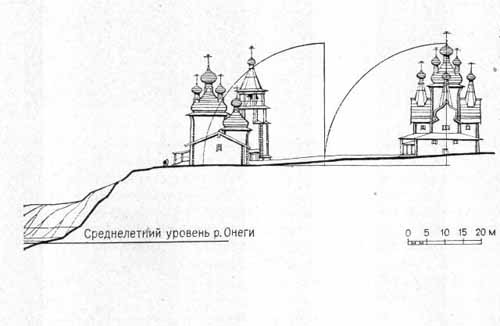
Рисунок 2.451 - Село Подпорожье. Храмовый ансамбль. Реконструкция. Фасад - сечение с запада [107, с. 120, рис. 81].
Интерес также представляют сведения, собранные краеведом С. Головченко и представленные на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Гора Жеребцова» [82]. «Село Подпорожье Онежского района Архангельской области (дорожный указатель - «Камениха»!) находится в 16 км от райцентра г. Онеги, расположенного в устье р. Онеги (Онежская губа Белого моря), и состоит из 7 небольших деревень: Грибановская (Грибаниха), Гора (Гора Жеребцова), Лахта, Медведевская (Средний Двор) и Наумовская (Подтайболье) - по левому, противоположному, берегу р. Онеги; Софроновская (Машелиха) и Амосовская (Камениха) - по правому берегу, где проходит автодорога.
В этом месте ширина водной глади реки составляет порядка 500-600 метров. К этому расстоянию можно смело прибавить метров 300 ширины самой речной долины. Поэтому, жемчужина окружающего пейзажа - деревянный кубоватый девятиглавый (к настоящему времени осталось восемь) храм Владимирской иконы Божией Матери (1757 г. постройки), стоящий на довольно высоком левом берегу (по местному - Жеребцова Гора; около 22 метров) и сам высотой 32 метра, блистает во всей своей строгой северной красоте. За свой солидный 250-летний возраст церковь не утратила былой стройности, а только потемнела, лишилась всех своих крестов и северного шатра. Конечно, специалисты - «деревянщики», да и все неравнодушные люди давно слышат молчаливый зов помощи. Когда–то стоявшие рядышком: тоже кубоватая семиглавая Троицкая церковь (1727 г.) и колокольня (XVIII в.), закончили свой земной путь в грозных 1940-х годах. А представьте на миг красоту этого ансамбля, парившего на протяжении нескольких километров над рекой, лесом, деревнями! Как говорится, «…осталось только на фотографиях…» (рисунки 2.452-2.454) [82, фото].

Рисунок 2.452 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Общий вид с северо-востока (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.453 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Общий вид с юго-запада (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.454 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Общий вид с юго-запада (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
«Река же Онега доступна на всем своем протяжении. В этом, естественно, свои «+» и «-». И чаще всего приезжающие посмотреть на достопримечательности гости больше ратуют о сохранении оставшихся уникальных памятников, чем местные жители, измученные добыванием хлеба насущного или просто потерявшие интерес к жизни. Это реалии нашего времени - никуда не денешься. Хотя, Слава Богу, есть неравнодушные люди и в деревнях, которые как-то стараются, в меру своих сил, сберечь наследие своих предков.
Есть такие «ангелы - хранители» и у Владимирской церкви с. Подпорожья. Это семья Келаревых, живущая недалеко от храма, в д. Гора Жеребцова (левый берег). У них хранится ключ от церкви. И всем цивилизованно к ним обратившимся они не отказывают в посещении памятника. К тому же сам хозяин в 2004 г. со своим конем (будет на фото) очень помог нам в проведении консервационных работ, подвозя рубероид, доски, которые хранились какое-то время на его личном подворье» [82].
Краеведом С. Головченко было также подготовлено описание «Состояния Владимирской церкви на 2008 год» [82]. «Владимирская ц. (1757 г.) построена на высоком (22 м.) левом берегу р. Онега, на горе Жеребцовой, в 16 км от г. Онеги по трассе « Онега - Москва». Проезд автобусом до д. Каменихи (Амосовской), переправа через реку. Кровли храма (самые проблемные места) покрыты рубероидом в 2003г. Большие утраты интерьера; отсутствует шатёр с главой на северном прирубе. Просадка центральной части храма относительно прирубов на два венца.
Примерный список работ на храме по состоянию на 6.10.2006 г. (верно на 2008 г.). 1. Главы: замена лемеха (половина объёма главы) на 8 сохранившихся главах; новые кресты. 2. Восстановление шатра с главой и крестом на северной бочке. 3. Рубка повалов стен алтарного прируба с юга и с севера. 4. Рубка повала южной стены западного прируба. 5. Замена кровель на всём храме (за небольшим исключением). 6. Вычинка кровель бочек и центрального куба. 7. Восстановление полов во всём храме (где плахи, а где доски). 8. Замена двух-трёх нижних венцов центрального четверика. 9. Восстановление оконных рам. 10. Восстановление потолков практически во всём храме. 11. Ремонт потолка - «неба» в центральной части. 12. Частичное восстановление обшивки!» [82].
Интерес также представляют сведения о Владимирской церкви из статьи журналиста Е. Некрасовой «Там, где семужка живет», опубликованной в газете «Онега» 5 апреля 2011 года [52]. «От города Онеги до Подпорожья немногим более 15 километров. Здесь, где пороги кончаются, и Онега разливается широким, как озеро, плесом, на высокой горе левого берега мы видим красивую церковь. Это памятник деревянного зодчества - Владимирская церковь, 1757 года. Подпорожье - место на Онеге известное. Здесь ловилась лучшая на всем Севере семга сорта «порог». И в настоящее время производится отлов этой ценнейшей царь-рыбы. Но вот мы на старинной Жеребцовой Горе. До чего же прекрасное, вольное место! Простор всюду, куда ни глянь. Онега вышла из тесных порогов и, обогнув горку, уходит вдаль широким руслом к виднеющемуся там городу. А недалеко и море... Здесь мы можем видеть действие приливов: заметно, как река становится полноводнее - и обсыхает, сужается в отлив.
Раньше церкви на горке встречали всех проплывающих по реке. Сначала были видны вершины церквей, а за поворотом они представали во всей красе. Церквей было две, обе кубоватые: пятиглавая Троицкая с приделом, тоже крытым кубом с одной главой (1725-1727), и Владимирская. Была и колокольня середины XIX века. Сохранилась доныне одна Владимирская. Церковь в Подпорожье достойно завершает блестящую серию онежского кубоватого зодчества. Боковые приделы Никольский и Пятницкий. Это огромное, величавое сооружение. Торжественность его облика еще более усиливается новым оригинальным приемом решения многоглавия: главки, увенчивающие бочки четырех прирубов, здесь подняты на восьмигранные усеченные дощатые пирамидки, так что маковки приходятся на уровне куба. Создается своего рода девятиглавие, живописная пирамида из шишек-главок.
Владимирская церковь вызывала восторги многих исследователей, начиная с академика В. Суслова, в свое время зарисовавшего ее и сделавшего обмер. Здание справедливо считается хрестоматийным. Это один из этапных памятников в развитии северного деревянного зодчества. Его надо охранять и как бесценное произведение искусства, и как часть исторического пейзажа - нижних порогов на древнем новгородском пути к Студеному морю. Пока еще держится остов здания, свидетельствующий о прочности работы онежских плотников. Но необходимы срочные консервационные меры. Иначе опустеет Жеребцова Гора ...» [52; 82].
Интересно также мнение ученого - архитектора М.В. Красовского об облике Владимирского храма, представленное в его работе «Курс русской архитектуры, часть I, Деревянное зодчестве» (Петроград, 1916 г.), переизданной спустя почти 85 лет (Сатисъ, Санкт-Петербург, 2002 г.) [35].
«…Не представляя чего-либо для нас нового в плане или разрезе, церковь эта интересна своим многоглавием и некоторыми особенностями в композиции основных масс. Действительно. Над кубом ее центрального четверика высятся, как и у кушерецкой церкви (Вознесенский храм из с. Кушерека Онежского района; перевезена в начале 1970-х г.г. в музей «Малые Корелы» под Архангельском - С. Головченко), пять глав, утвержденных на нем непосредственно, без каких-либо переходных элементов; кроме этих глав имеются еще четыре, отмечающие собой алтарную часть храма и три остальных его прируба. Шейки этих главок стоят не прямо на кольцах кровель прирубов, а высоко приподняты восьмигранными шатриками, вследствие чего они образуют одну общую группу с маковицами куба, что явным образом составило конечную задачу строителя - придать своему произведению богатую и живописную внешность. Этой цели он достиг, но зато детали Подпорожской церкви далеко не так удачны, как у двух предыдущих памятников кубастых храмов; в самом деле, во-первых, шейки маковок тонки и не пропорциональны тяжеловатым луковицам, во-вторых, непосредственная связь таких разнохарактерных форм как бочки и шатры, конечно, не могли дать гармоничного целого, и, наконец, одна общая трехлопастная бочка над низким, да еще расчлененным на три части алтарем, дает полную неуравновешенность масс, отчего алтарные срубы кажутся придавленными непосильным для них грузом».
Этому описанию уже 90 с лишним лет. Сам М.В. Красовский уже тогда с сожалением писал, что «деревянных памятников осталось мало» (!) А их в тогдашней России было в сотни раз больше, чем в наше время. Что же говорить нам?..» [35; 82].
Сведения о Подпорожском погосте имеются также в книге архитекторов И.А. Бартенева и В.Н. Федорова «Архитектурные памятники Русского Севера» [11, с. 134-135] (ссылки на последнюю книгу содержатся, в частности, в электронной статье «Бережная Дуброва на карте России» [12]). «Чем ближе к Белому морю, тем все чаще встречаются кубоватые церкви с каноническим пятиглавием на главном объеме и почти совершенно исчезают церкви шатровые. Так, в селе Чекуево, там где Онега разветвляется на два рукава, вместо шатровых церквей, характерных для онежских погостов, были поставлены две кубоватые церкви (1675 и 1687 гг.). Из них сохранилась только одна - Преображенская церковь, причем кубоватое покрытие ее утрачено. Это характерное для XVII в. сооружение, необычайно красивое по силуэту, требует реставрации.
Далее, при слиянии рек Онеги, Малой Онеги и Кожа, стоит кубоватая Климентовская церковь, построенная в 1695 г. В самом устье Онеги, недалеко от впадения ее в Белое море, в селе Подпорожье, были возведены две кубоватые церкви - Владимирская и Троицкая. Необычна по сочетанию объемов Троицкая, сооруженная в 1725-1727 гг. Она состоит из трех четвериков. Два из них, к которым примыкает трапезная, имеют покрытие в виде одноглавых кубов, третий, более высокий, завершен пятиглавой кубоватой кровлей. Над главным алтарным прирубом возвышается большая бочка с резным гребнем на коньке и маленькой главкой. Все главы у основания украшены плоскими кокошниками. Кубоватое покрытие не было вызвано к жизни решением каких-либо конструктивных задач, - оно выполняло только декоративную роль, усиливая впечатление нарядности и великолепия построек.
Наличие большого количества кубоватых церквей в низовьях реки Онеги и ее притоков, а также вдоль южного берега Белого моря не случайно. Оно объясняется близостью таких больших монастырей, как Соловецкий и Крестный на Кий-острове. В этих монастырях и землях, им принадлежащих, раньше всего начали проводиться в жизнь принципы новой церковной политики и те требования, которые предъявлял патриарх Никон к архитектуре церковных сооружений: «Церковь строить по правилам святых апостол и святых отец, чтобы была о пяти верхах, а не шатром». Естественно, что поблизости мест, часто посещаемых официальными церковными лицами, в том числе и самим Никоном, шатровые здания «в чистом виде» оставаться не могли. Зодчие изощрялись в попытках обойти запрет. Чтобы создать видимость пятиглавия, центральный шатер окружался четырьмя прирубами, завершенными главками. Так было в Вознесенской церкви в селе Пияла. Но наибольшее распространение, не вызывая большого протеста со стороны церковных властей, имели кубоватые покрытия. Они хотя и уступали шатру по своим живописным качествам, по силуэту, но были ближе к старому традиционному русскому зодчеству, чем любая другая форма кровли»
Дополнить характеристику Подпорожского погоста, представленную в книгах архитекторов М.В. Красовского, И.А. Бартенева и Б.Н. Федорова позволяют данные, опубликованные в работе историка и краеведа Г.П. Гунна «Каргополье - Онега» (рисунок 2.455) [20; 21; 82, фото].

Рисунок 2.455 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Общий вид с северо-запада (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
«Путь наш по Онеге заканчивается. Река идет от плеса к плесу в тех же невысоких берегах с неширокими лугами и подступающим к воде лесом. Не часты селения. Но вот за последним речным изгибом открылись впереди голые седые холмы, а под ними поселок. Это - Порог. До города Онеги отсюда немногим более двадцати километров, но судоходства ниже нет - сразу же за железнодорожным мостом, пересекающим здесь реку, начинаются пороги и тянутся на девять километров. И вот там, где пороги кончаются, и Онега разливается широким, как озеро, плесом, на высокой горе левого берега вы увидите красиво стоящую церковь. Это последний в нашем путешествии памятник деревянного зодчества - Владимирская церковь 1757 года в селе Подпорожье.
В «Подлинной дозорной книге» по городу Каргополю 1648 года о селе Подпорожье сказано: «Волость Подпорожья на реке Онеге... Деревня Жеребцова Гора, а в ней стал новый погост, а на погосте церковь Живоначальныя Троицы, да в приделе Никола Чудотвореца...» Подпорожье - место на Онеге известное. Здесь ловилась лучшая на всем Севере семга сорта «порог». И в настоящее время производится отлов этой ценнейшей царь-рыбы.
Но вот мы на старинной Жеребцовой Горе. До чего же прекрасное, вольное место! Простор всюду, куда ни взглянь. Онега вышла из теснин порогов и, обогнув горку, уходит вдаль широким руслом к виднеющемуся там городу. А где-то там и море... Здесь уже сказывается действие приливов: заметно, как река становится полноводнее и обсыхает, сужается в отлив.
Некогда церкви на горке встречали всех проплывших пороги. Они были поставлены с расчетом на дальний обзор. Сначала были видны вершины церквей, а за поворотом здания представали во всей красе. Церквей было две, обе кубоватые: пятиглавая Троицкая с приделом, тоже крытым кубом с одной главой (1725-1727), и Владимирская. Была и колокольня середины XIX века. Сохранилась доныне одна Владимирская.
Церковь в Подпорожье достойно завершает блестящую серию онежского кубоватого зодчества. Основные мотивы, выработанные онежскими плотниками: крещатый план, трехлопастная бочка апсиды - здесь торжествуют. Это огромное, величавое сооружение. Торжественность его облика еще более усиливается новым оригинальным приемом решения многоглавия: главки, увенчивающие бочки четырех прирубов, здесь подняты на восьмигранные усеченные дощатые пирамидки, так что шейки главок начинаются у повала, а маковки приходятся на уровне куба. Создается своего рода девятиглавие, живописная пирамида из шишек-главок.
Владимирская церковь вызывала восторги многих исследователей, начиная с академика В. Суслова, в свое время зарисовавшего ее и сделавшего обмер. Здание справедливо считается хрестоматийным. Это один из этапных памятников в развитии северного деревянного зодчества. Его надо охранять и как бесценное произведение искусства и как часть исторического пейзажа - нижних порогов на древнем новгородском пути к Студеному морю. Пока еще держится остов здания, свидетельствующий о прочности работы онежских плотников. Но необходимы срочные консервационные меры. Иначе опустеет Жеребцова Гора...» [20, с. 126-128; 21, с. 144-146].
Упоминания о церквях Подпорожского погоста содержатся также в работе краеведа Г.Б. Дерягина «Окрестности Онеги», опубликованной на сайте «Sudmed-nsmu.narod.ru» [25]. «Многие названия речек, впадающих в Онегу, озёр, мысов и деревень носят явно не русский характер. Это следы древних жителей этих мест - финно-угорских и саамских племен. Да и само название «Онега» финно-угорских происхождения. Имеется несколько разнообразных переводов названия, но, вероятнее всего, Онега переводит¬ся как Большая или Святая река.
Первые стоянки людей в Поонежье возникли около 5-6 тысяч лет назад. До этого здесь был ледник, а затем большое опресненное море. Заселение земель происходило вдоль тающих языков ледника и постепенно мелеющего моря. Эти древние племена не имели четких признаков государственности, в основной своей массе были разрозненными.
Первые русские охотники и торговцы стали здесь появляться уже в начале средних веков, но их приход сюда еще в IX и Х веках не носил массового характера. Большая волна переселенцев, выходцев из Новгорода Великого, пришла на берега Онеги в XI-XII веках. Местами произошло вытеснение местных племен, местами - ассимиляция. Этот процесс не везде проходил гладко.
Вторая большая волна переселенцев, но уже выходцев из Владимиро-Суздальских земель, Ростова Великого, Москвы, Твери, пришла на Поонежье в XIII веке в пору грозного Батыева нашествия. Люди искали безопасных мест для хлебопашества, промыслов, спасались от врага и от боярской кабалы, сюда шли искать счастливую долю, уходя от различных невзгод. Переселенцы принесли с собой на Север драгоценные памятники древней письменности, иконописи, прикладного искусства.
С глубокой древности на реке Онеге возникли большие округа - погосты, где силен был крестьянский мир, а воздействие знати не велико. На обширной территории реки Онеги в те далекие времена обустроились тысячи деревенек, причем, чем ниже по Онеге, тем чаще встречались малодворные деревни. Там были широко развиты промыслы, и было мало пашенных дворов. Близь моря предприимчивые люди заводили большие многоотраслевые хозяйства: дворы со скотиной, житницы с хлебом, солеварни, кузницы, угодья с сенными покосами, заколы для ловли семги, нерпяные ловища. Рыболовство играло в жизни края большую роль. Кроме речной, ловили и благородную морскую рыбу.
Семгу в старину ловили посредством беломорских заборов - бревенчатых частоколов, вбитых в дно реки таким образом, что забор перегораживал реку. У отверстий забора ставились сети. Эти заборы стояли по несколько десятков, один за другим, начиная от устья Онеги, и на 17 верст выше города до села Подпорожье. Вот, что писал в середине 19 века этнограф С.В. Максимов, посетивший наши края, в своей книге «Год на Севере» [43], за которую он был удостоен Малой золотой медали Императорского Географического общества: «Здесь вылавливается тот сорт беломорской семги, который известен в Петербурге под именем «ПОРОГ» и считается лучшим, причем «ПОРОГ» способен долго хранить свой засол, не теряя вкуса, вида и красного цвета». Именно этот сорт семги со времен патриарха Никона, бывшим в этом краю игуменом Кожозерского монастыря, поставлялся на патриарший и царский стол, а в дальнейшем и на столы советских кремлевских правителей. До начала 1990-х годов в Подпорожье река была перегорожена забором, выловленную семгу сразу на самолете отправляли в Москву. Авторы имели счастье сравнивать вкус семги, выловленной в разных реках Архангельской области и в Норвегии, онежская семга действительно лучше.
Кроме того, жители Поонежья охотились на лесного зверя, бобров, вели лебяжий промысел, в реках добывали жемчуг. Север издавна славился своим жемчугом.
В деревне Камениха, которая является составной частью села Подпорожья, следует остановиться напротив канала, прорытого в мелководной части реки по приказу патриарха Никона, еще в его бытность игуменом Кожозерского монастыря. Здесь, возле автодороги, открывается замечательный вид на церковь Владимирской Багоматери, поставленной на вершине Жеребцовой горы в 1757 году на месте сгоревшего в 1724 году храма Святой Троицы. Владимирская церковь строилась и перестраивалась с 1745 по 1757 год. В 1727 году рядом с ней был вновь поставлен Святотроицкий храм с Богоявленским приделом, но до наших дней он не дожил. Церкви на горке были поставлены с расчетом на дальний обзор. Сначала путнику показывались вершины церквей, а за поворотом реки здания представали во всей красе.
Как мы уже сказали, до наших дней сохранилась лишь одна Владимирская церковь. Она из блестящей серии Онежского кубоватого зодчества. Основные мотивы, выработанные онежскими плотниками: крещатый план и трехлопастная бочка апсиды здесь умело использованы, но применен и совершенно оригинальный прием решения многоглавия - главки, увенчивающие бочки четырех прирубов, здесь подняты на восьмигранные, усеченные дощатые пирамидки так, что шейки главок начинаются у повала, а маковки находятся на уровне куба. Получается интересное девятиглавие. Совсем недавно я убедился, что бревна в основании сруба отлично сохранились, хотя церковь в советское время ни разу не ремонтировалась (рисунок 2.456) [25, фото].
«Крестьяне здесь в старину жили богато, отчасти благодаря ловле семги. Вылавливаемую рыбу продавали с торгов, при этом каждая рыбина была не менее десяти фунтов весу – это четыре килограмма. Так, в 1900 году за выловленную и проданную семгу крестьяне выручили около 30 тысяч рублей, а в 1901 году крестьяне выручили за семгу более 25 тысяч рублей - очень хорошие по тем временам деньги. Расход же на устройство закола, ловлю, и прочие надобности составил всего около 600 рублей. Какая рентабельность! Организацией этих заколов, расположенных в Подпорожье и выше по течению реки - на порогах, также кормились крестьяне сел Порог и Вонгуда. Кроме того, в этих местах водится и нерестится минога, которую было принято запекать в пироги. Семгу крестьяне не только продавали, но и оставляли для своего пропитания. В каждой семье на зиму обычно засаливали несколько бочек семги. По свидетельству местных жителей, семгой кормили даже кошек и собак, а работники, нанимаясь к кому-нибудь строить дом, часто выдвигали требование: «Семгой нас не кормить»! (Наемные работники, как правило, столовались у того хозяина, кому строили)…» [18].

Рисунок 2.456 - Церковь Владимирской Багоматери на Жеребцовой горе (1757 г.). Общий вид с юго-востока [25, фото].
Из работы Б.Г. Дерягина также становится известным, что «город Онега является родиной лесоэкспорта и промышленного лесопиления. Еще в 1755 году граф П.И. Шувалов получил от Екатерины Великой во владение Онежские лесные промыслы. Ему было разрешено рубить лес и отправлять древесину за границу. Надо сказать, что Онега является одним из древнейших русских портов, но с возникновением Санкт-Петербурга Петр I запретил вывозить через беломорские порты все товары, кроме леса.
Оживленная торговля лесом наступила лишь во второй половине XVIII века, до этого богатейшие запасы древесины на Севере использовались мало. Граф построил две пильные мельницы, но вскоре продал свои Онежские владения английскому купцу Гому. Гом заготовлял лес по реке Онеге на 250 верст, имел три лесопильни, канатную фабрику, прядильный двор и две судоверфи. Одна судоверфь располагалась в селе Подпорожье» [25].
Интерес также представляет подготовленное краеведом С. Головченко «Общее описание с. Подпорожье», опубликованное на портале «Оnegaonline.ru» [82]. «Село Подпорожье Онежского района Архангельской области (дорожный указатель - «Камениха»!) находится в 16 км от райцентра г. Онеги, расположенного в устье р. Онеги (Онежская губа Белого моря), и состоит из 7 небольших деревень: Грибановская (Грибаниха), Гора (Гора Жеребцова), Лахта, Медведевская (Средний Двор) и Наумовская (Подтайболье) - по левому, противоположному, берегу р. Онеги; Софроновская (Машелиха) и Амосовская (Камениха) - по правому берегу, где проходит автодорога.
В этом месте ширина водной глади реки составляет порядка 500-600 метров. К этому расстоянию можно смело прибавить метров 300 ширины самой речной долины. Поэтому, жемчужина окружающего пейзажа - деревянный кубоватый девятиглавый (к настоящему времени осталось восемь) храм Владимирской иконы Божией Матери (1757 г. постройки), стоящий на довольно высоком левом берегу (по местному - Жеребцова Гора; около 22 метров) и сам высотой 32 метра, блистает во всей своей строгой северной красоте. За свой солидный 250-летний возраст церковь не утратила былой стройности, а только потемнела, лишилась всех своих крестов и северного шатра. Конечно, специалисты - «деревянщики», да и все неравнодушные люди давно слышат молчаливый зов помощи. Когда–то стоявшие рядышком: тоже кубоватая семиглавая Троицкая церковь (1727 г.) и колокольня (XVIII в.), закончили свой земной путь в грозных 1940-х годах. А представьте на миг красоту этого ансамбля, парившего на протяжении нескольких километров над рекой, лесом, деревнями! Как говорится, «…осталось только на фотографиях».
Вот такое получилось лирическое вступление. Так что спешите увидеть, что еще осталось! И поверьте, что даже в таком «урезанном» виде местные пейзажи Вас не оставят равнодушными…
Как добраться. Самым идеальным на данном случае является автомобильный транспорт (любой л/а, кроме иномарок с низким дорожным просветом) , т.к. железные дороги диктуют свои условия (нет такой разветвлённой сети, как в Центральной России, масса нестыковок расписаний и т.д.). В качестве самой свежей информации о передвижении, вернее всего, Вам подойдет (и мы на него опираемся) Автодорожный атлас «Архангельская область, Ненецкий автономный округ» из серии «Автодорожные атласы России», Санкт-Петербург, ФГУП «Аэрогеодезия», 2004 г. [7].
Буквально несколько лет назад вводом в эксплуатацию 70-километрового участка «г. Северодвинск - д. Кянда Онежского района», проложенного в центральной части Онежского полуострова, замкнулось гигантское транспортное кольцо, а именно: федеральное усовершенствованное шоссе М8 «Холмогоры» (Вельск - Архангельск - Северодвинск) соединилось с территориальной автодорогой с покрытием переходного типа (Северодвинск - Онега - Плесецк) и усовершенствованным покрытием (Плесецк - Каргополь - Няндома - Долматово (М8) - Вельск) или (Няндома - Коноша - Вельск (М8).
Направляясь со стороны Москвы, можно двигаться в направлении «по часовой стрелке» или наоборот - большой разницы нет: через Няндому на Каргополь - попадаешь на оз. Лача, откуда Онега вытекает, если ехать через г. Архангельск на г. Онегу - попадаешь в устье, на берег Онежского залива Белого моря.
А цель нашего проекта «Деревянное зодчество» - охватить бассейн р. Онеги на всем ее протяжении (440 км) от истока (г. Каргополь, оз. Лача) и до устья (г. Онега), как уникальный по концентрации деревянных памятников культового и гражданского зодчества, еще пока сохранившихся на своих исторических местах, попытаться в очередной раз привлечь внимание людей неравнодушных к нашей обшей славной истории и попытаться общими усилиями хоть что-то ещё спасти для наших детей. К тому же мы живём в г. Онеге и поэтому не беремся представлять бассейн р. Северной Двины. Хорошо бы там нашлись наши единомышленники …
Очень интересен район оз. Кенозера (Национальный парк «Кенозерский» в Плесецком районе), тоже бассейна р. Онеги (р. Кена, вытекая из Кенозера, впадает в р. Онегу). Своего рода исключение из всеобщей разрухи. Здесь как, видимо, нигде в Архангельской области охраняются и развиваются исторические поселения со своими памятниками архитектуры и уникальными планировочными традициями. Главное, что Парк старается, чтобы местные жители сохраняли свой традиционный уклад природопользования и были в этом сами заинтересованы. Поэтому, здесь особый режим посещения, как на территории особо охраняемой.
Река же Онега доступна на всем своем протяжении. В этом, естественно, свои «+» и «-». И чаще всего приезжающие посмотреть на достопримечательности гости больше ратуют о сохранении оставшихся уникальных памятников, чем местные жители, измученные добыванием хлеба насущного или просто потерявшие интерес к жизни. Это реалии нашего времени - никуда не денешься. Хотя, Слава Богу, есть неравнодушные люди и в деревнях, которые как-то стараются, в меру своих сил, сберечь наследие своих предков.
Есть такие «ангелы - хранители» и у Владимирской церкви с. Подпорожья. Это семья Келаревых, живущая недалеко от храма, в д. Гора Жеребцова (левый берег). У них хранится ключ от церкви. И всем цивилизованно к ним обратившимся они не отказывают в посещении памятника. К тому же сам хозяин в 2004 г. со своим конем (будет на фото) очень помог нам в проведении консервационных работ, подвозя рубероид, доски, которые хранились какое-то время на его личном подворье» [82].
Сведения о Владимирской церкви села Подпорожье имеются также на сайте «Моя Русь. Официальный сайт Юрия Огурцова» [66]. «Еще один интереснейший район и собрание жемчужин деревянного зодчества Архангельской области - Поонежье!. Этот регион изъезжен мною в несколько лет с 2003 по 2005, также с плёночным фотоаппаратом. Наибольший интерес представляют (к сожалению, в целом виде уже ни одного не осталось) классические Онежские «тройники», состоящие из летней большой церкви, зимней отапливаемой и колокольни. Церкви были: одна «Кубоватая», вторая - шатровая. Как раз Кубоватые церкви (исключая Вирму) были распространены только в Поонежье и имеют различные предположения, относительно подобной архитектуры. В данное время сохранилось лишь несколько церквей в «живом» виде, то есть на месте постройки: Архангело, Бережная Дуброва, Турчасово, Подпорожье, Вирма, Унежма, Поле). Интересную карту Поонежья можно посмотреть по адресу - http://www.onegaonline.ru/dz2/index.asp, а интересное исследование Кубоватых церквей - http://www.rusarch.ru/mokeev4.htm.
Сам город Онега запомнился только дороговизной цен. А вот 2 объекта рядом весьма интересны. Прежде всего, это Владимирская церковь 1757 г. в нежилом селе Подпорожье, с небом. Причем пришлось просидеть на берегу часа 2 в жилой деревне Камениха, прежде чем нашелся мальчик согласившейся свозить на другой берег» (рисунки 2.457-2.459) [66, фото].

Рисунок 2.457 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [66, фото].

Рисунок 2.458 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Общий вид с востока (автор и время съемки неизвестны) [66, фото].

Рисунок 2.459 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Общий вид с северо-запада (автор и время съемки неизвестны) [66, фото].
Сведения о Подпорожской ГСНМ содержатся также в «Отчете о походе по Прионежью и Поморскому берегу Белого моря (Архангельская область) А. Дементева по маршруту: Оксовский (Наволок) - Ярнема, Городок (Прошково), Турчасово, Пияла, Большой Бор, Поле, Сырья, Подпорожье, г. Онега, Кий-остров, Ворзогоры - Нименьга, Малошуйка (Абрамовская) и Унежма 23 июня - 9 июля 2009 года [24]. В составе группы были: священник С. Чураков, М. Чуракова, Т. Ярмолинская и А. Дементьев.
В дневнике А. Дементьева записано, что 30 июня 2009 года в 7.40 «продолжили путь на автобусе. Следующий пункт - Подпорожье (остановка называется Камениха) Сплавали на другой берег, к церкви в честь Владимирской иконы Божией Матери (1757)» (рисунки 2.460-2.462) [24, фото].

Рисунок 2.460 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Общий вид (фото свящ. С. Чуракова и М. Чураковой, 2009 г.) [24, фото].

Рисунок 2.461 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Общий вид (фото свящ. С. Чуракова и М. Чураковой, 2009 г.) [24, фото].

Рисунок 2.462 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Общий вид (фото свящ. С. Чуракова и М. Чураковой, 2009 г.) [24, фото].
Интерес также представляют данные, опубликованные на портале «Малые Острова России» в разделе «Острова деревянные» и датированные 26 февраля 2006 года [65]. «После разделения Онеги и до впадения Мудьюги островной берег нежилой, но дома, видимо, используются рыбаками. Света у них нет. В деревне Мондино света нет, но есть два-три относительно жилых дома. Кирилловская у Шомборучья нежилая, виден сгнивший сруб и вроде целый сруб бани - возможно, охотничий домик. Октябрьская без света, но жилая. Карамино и Каменное жилые. Чижиково на слиянии Онеги жилое, Корельское тоже. Через пару километров после Корельского становится видно сотовую вышку в Пороге. Соответственно, есть связь. Церковь в Мондино: чуть не в лучшем состоянии из всех построек деревни (адрес - http://bor1.users.photofile.ru/photo/bor1/115817008/xlarge/139018236.ipg), церковь в Каменном: скрыта зеленью, в хорошем состоянии (адрес - http://bor1.users.photofile.ru/photo/bor1/115817008/xlarge/139018277.ipg), церковь на Жеребцовой Горе: стоит, красивая (адрес - http://bor1.users.photofile.ru/photo/bor1/115817008/xlarge/139018328.ipg). Все фотографии: ссылка на альбом (адрес - http://photofile.ru/users/bor1/115817008/) [65].
Сведения о Владимирской церкви (церкви Владимирской Богоматери) в селе Подпорожье можно также найти в монографической работе искусствоведа Т.М. Кольцовой «Иконы Северного Поонежья» [33, с. 260].
Кроме того, необходимо упомянуть и о сведениях, представленных на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Гора Жеребцова» виде достаточно развернутого набора фотографий общего вида деревни, а также ее культовых и жилых построек (рисунки 2.463-2.499) [82, фото].

Рисунок 2.463 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Храмовый комплекс. Общий вид с юго-запада. Справа - Владимирская церковь (1757 г.). Слева - Троицкий храм (1727г.) в процессе разборки. Фото из фондов музея г. Онеги после 1939 г. (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.464 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Церковь во имя Живоначальной Троицы (1727), фото из книги А.А. Каретников, «Деревянное церковное строительство», Архангельск, 2010. Общий вид с юго-востока (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.465 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Троицкая церковь 1725-1727 гг. Общий вид с юго-востока Утрачена в 1940-х годах. Фото из фондов музея г. Онеги (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.466 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Троицкая церковь 1725-1727 гг. Общий вид с юго-востока (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.467 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Троицкая церковь 1725-1727 гг. Общий вид с юга (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
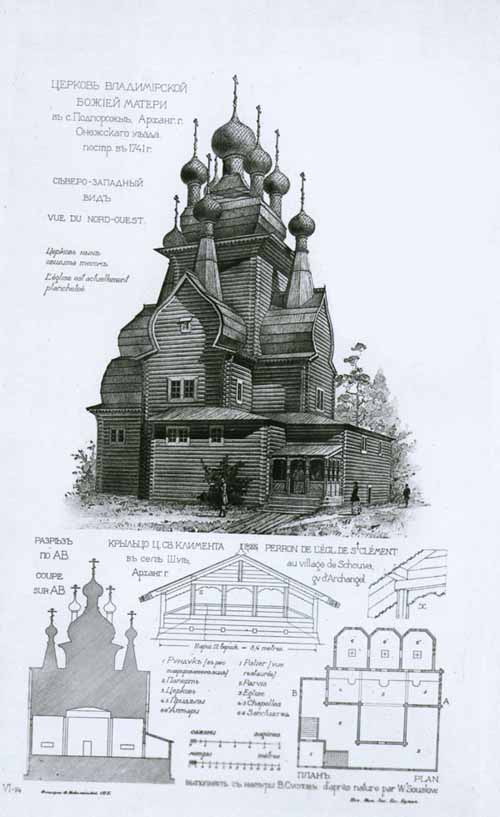
Рисунок 2.468 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. «Церковь Владимирской Божией Матери в с. Подпорожье, Арханг. г. Онежскаго уезда, постр. в 1741 г. Северо-западный вид». Обмерный чертеж и проект реставрации Владимирской церкви, выполненный академиком В.В. Сусловым в 1886 г. [82, фото].
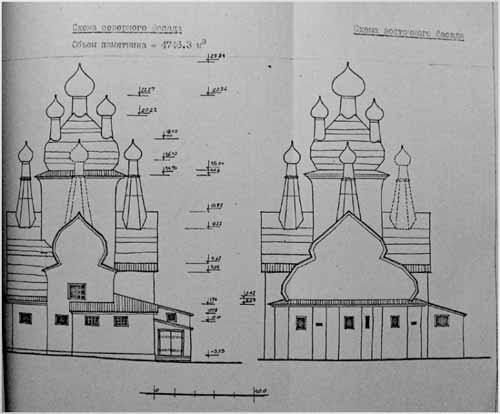
Рисунок 2.469 - Село Подпорожье, деревня Жеребцова Гора, Онежского района, Архангельской области. Владимирская церковь 1757 г. Схема северного фасада. Схема северного фасада [82, фото].

Рисунок 2.470 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Общий вид (фото Е. Келарева (Онега), май 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.471 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Вид с севера через реку Онегу (автор съемки неизвестен, сентябрь 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.472 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Вид от деревни Камениха (Амосовская) (автор съемки неизвестен, сентябрь 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.473 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Вид с околицы (автор съемки неизвестен, сентябрь 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.474 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Юго-восточный фасад (автор съемки неизвестен, 2002 г.) [82, фото].

Рисунок 2.475 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Северный фасад (автор съемки неизвестен, сентябрь 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.476 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Западный фасад (автор съемки неизвестен, сентябрь 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.477 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Восточный фасад (автор съемки неизвестен, сентябрь 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.478 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Вид с северо-запада. Майский вечер (фото Е. Келарева (Онега), май 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.479 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Общий вид с юго-востока (фото Г. Чухина (Онега), август 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.480 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Общий вид с северо-востока (фото Г. Чухина (Онега), август 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.481 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Южный фасад (автор съемки неизвестен, сентябрь 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.482 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Юго-восточный фасад (автор съемки неизвестен, сентябрь 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.483 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Вид с северо-запада (автор съемки неизвестен, сентябрь 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.484 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Вид с юго-востока (автор съемки неизвестен, сентябрь 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.485 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Вид с юга (автор съемки неизвестен, сентябрь 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.486 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Вид с севера (автор съемки неизвестен, сентябрь 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.487 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Вид с запада (автор съемки неизвестен, сентябрь 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.488 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Вид с востока (автор съемки неизвестен, сентябрь 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.489 - Деревня Медведевская. Лёд в «гармошку» (фото Е. Келарева (Онега), май 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.490 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. Айсберги выбросились на берег (фото Е. Келарева (Онега), май 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.491 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Половодье (фото Е. Келарева (Онега), май 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.492 - С ветерком. На том берегу - д.д. Жеребцова Гора и Медведевская (фото Е. Келарева (Онега), май 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.493 - Деревня Медведевская. Часть жилой застройки (фото Е. Келарева (Онега), май 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.494 - Деревня Медведевская. Один из домов (фото Е. Келарева (Онега), май 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.495 - Дом в деревне Медведевская (фото Е. Келарева (Онега), май 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.496 - Деревня Наумовская - Подтайбола - Подтайболье - Подпорожье. Часть жилой застройки. Снимок с правого берега (автор съемки неизвестен, 8 апреля 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.497 - Фотовид из центральной главы (Владимирская церковь 1757 г.) в сторону левобережной части с. Подпорожье, д.д. Гора Жеребцова, Лахта, Медведевская, Наумовская (автор съемки неизвестен, сентябрь 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.498 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Предположительно - бывший причтовый (церковный) дом (автор съемки неизвестен, 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.499 - Деревня Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье. Владимирская церковь 1757 г. За рекой - деревня Камениха (Амосовская) (автор съемки неизвестен, сентябрь 2006 г.) [82, фото].
Интерес также представляют статистические данные, опубликованные на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Медведевская», в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [82]. Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о деревне Медведевская, правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 234; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о деревне Медведевская (Лахта), в котором на этот момент насчитывалось 16 дворов, в которых проживало 119 человек (47 - мужского и 72 - женского пола) [82; 92, с. 43].
В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о деревне Медведевская (Средний двор и Лахта). В этот период времени деревня относилась к Подпорожской волости Подпорожского сельского общества и соответственно к Подпорожскому приходу. Количество жилых дворов на данный момент составляло 29 единиц. Количество населения: мужского пола - 83, женского пола - 97. (всего 180 человек) [14, с. 168-169; 82]. А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о деревне Медведевская (ср. дв. Лехта). В это время в деревне насчитывалось 33 двора, в которых проживало 179 человек обоего пола [82; 93, с. 18].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» в деревне Медведевская (Средний двор, Лехта) по переписи 1920 года насчитывалось 30 дворов, а количество населения: мужского пола - 55, женского пола - 87 (всего 142 человека) [82; 94, с. 87]. В результате укрупнения волостей в 1924 году данные деревни вошли в состав Онежской волости Онежского уезда [82; 95, с. 26-27].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о деревне Медведевская (Средний двор), но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 346; 82].
Интерес также представляют статистические данные, опубликованные на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Грибановская», в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [82]. Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о деревне Грибаниха (Грибановская), правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 233; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о деревне Грибановская, в которой на этот момент насчитывалось 19 дворов, в которых проживало 147 человек (67 - мужского и 80 - женского пола) [82; 92, с. 43].
В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о деревне Грибановская (Грибаниха). В этот период времени деревня относилась к Подпорожской волости Подпорожского сельского общества и соответственно к Подпорожскому приходу. Количество жилых дворов на данный момент составляло 36 единиц. Количество населения: мужского пола - 128, женского пола - 127. (всего 255 человек) [14, с. 168-169; 82]. А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о деревне Грибановская (Грибаниха). В это время в деревне насчитывалось 50 дворов, в которых проживало 260 человек обоего пола [82; 93, с. 18].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» в деревне Грибановская (Грибаниха) по переписи 1920 года насчитывалось 48 дворов, а количество населения: мужского пола - 76, женского пола - 124 (всего 200 человек) [82; 94, с. 87]. В результате укрупнения волостей в 1924 году данные деревни вошли в состав Онежской волости Онежского уезда [82; 95, с. 26-27].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о деревне Грибановская в составе Подпорожского сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 346; 82].
Интерес также представляют сведения, собранные краеведом С. Головченко и опубликованные на портале «Onegaonline» в разделе «Деревня Гора Жеребцова» [82]. «Село Подпорожье Онежского района Архангельской области (дорожный указатель - «Камениха»!) находится в 16 км от райцентра г. Онеги, расположенного в устье р. Онеги (Онежская губа Белого моря), и состоит из 7 небольших деревень: Грибановская (Грибаниха), Гора (Гора Жеребцова), Лахта, Медведевская (Средний Двор) и Наумовская (Подтайболье) - по левому, противоположному, берегу р. Онеги; Софроновская (Машелиха) и Амосовская (Камениха) - по правому берегу, где проходит автодорога.
В этом месте ширина водной глади реки составляет порядка 500–600 метров. К этому расстоянию можно смело прибавить метров 300 ширины самой речной долины. Поэтому, жемчужина окружающего пейзажа - деревянный кубоватый девятиглавый (к настоящему времени осталось восемь) храм Владимирской иконы Божией Матери (1757 г. постройки), стоящий на довольно высоком левом берегу (по местному - Жеребцова Гора; около 22 метров) и сам высотой 32 метра, блистает во всей своей строгой северной красоте. За свой солидный 250-летний возраст церковь не утратила былой стройности, а только потемнела, лишилась всех своих крестов и северного шатра. Конечно, специалисты – «деревянщики», да и все неравнодушные люди давно слышат молчаливый зов помощи. Когда–то стоявшие рядышком: тоже кубоватая семиглавая Троицкая церковь (1727 г.) и колокольня (XVIII в.), закончили свой земной путь в грозных 1940-х годах. А представьте на миг красоту этого ансамбля, парившего на протяжении нескольких километров над рекой, лесом, деревнями! Как говорится, «…осталось только на фотографиях…».
«Река же Онега доступна на всем своем протяжении. В этом, естественно, свои «+» и «-». И чаще всего приезжающие посмотреть на достопримечательности гости больше ратуют о сохранении оставшихся уникальных памятников, чем местные жители, измученные добыванием хлеба насущного или просто потерявшие интерес к жизни. Это реалии нашего времени - никуда не денешься. Хотя, Слава Богу, есть неравнодушные люди и в деревнях, которые как-то стараются, в меру своих сил, сберечь наследие своих предков.
Есть такие «ангелы - хранители» и у Владимирской церкви с. Подпорожья. Это семья Келаревых, живущая недалеко от храма, в д. Гора Жеребцова (левый берег). У них хранится ключ от церкви. И всем цивилизованно к ним обратившимся они не отказывают в посещении памятника. К тому же сам хозяин в 2004 г. со своим конем (будет на фото) очень помог нам в проведении консервационных работ, подвозя рубероид, доски, которые хранились какое-то время на его личном подворье» [82].
Интерес также представляют сведения, собранные краеведом С. Головченко и представленные на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Камениха» [82]. «В настоящее время д. Камениха (Амосовская) самая населенная из деревень села Подпорожье (см. карту в разделе «Подпорожье. Подпорожский приход»). По-видимому, решающую роль здесь играет трасса, в 1980-х годах «спрямившая» старую дорогу Онега - Порог - Вонгуда, проходившую через саму деревню. В Каменихе находится и единственный магазин, который «кормит» и левобережную часть села. Люди оттуда добираются на своих лодках. Там живут в основном «дачники», но есть еще и постоянные жители.
Территория же соседней д. Машелихи (Софроновской) уже полностью занята дачным поселком онежан. Напротив Машелихи, на левом берегу, особняком от других деревень приютилась д. Грибаниха. В черте этих двух последних населенных пунктов и выше по течению до села Порог протянулся семикилометровый порожистый участок, прибавляющий живописности и разнообразия в окрестные пейзажи.
В реке ловится обычная речная рыба. После прекращения в конце 1990-х «молевого» сплава древесины ее стало заметно больше, но есть одно «но». Онега - нерестовая река для семги, поэтому рыбоохрана периодически «наведывается» в эти места…» (рисунок 2.500) [82, фото].

Рисунок 2.500 - Деревня Амосовская - Камениха - Подпорожье, Кокоринская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
Также необходимо упомянуть о сведениях, представленных на портале «Оnegaonline.ru» в виде набора фотографий Владимирской церкви (1757 г.) в деревне Гора - Гора Жеребцова - Погост - Медведевская - Подпорожье и фотографий общего вида деревни Амосовская - Камениха (рисунки 2.501-2.510) [82, фото].

Рисунок 2.501 - Деревня Камениха (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.502 - Деревня Камениха (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.503 - Деревня Камениха (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.504 - Деревня Камениха (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.505 - Лов семги, д. Камениха, 60-е годы (фото А. Венедиктова, 1960-е годы) [82, фото].
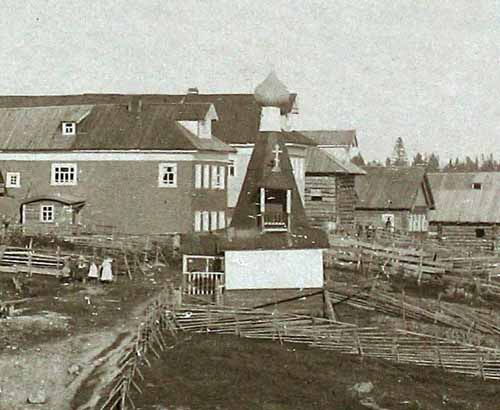
Рисунок 2.506 - Деревня Сафроновская - Софроновская - Машелиха - Мошалиха - Подпорожье. Часовня Сретения Господня (1774 г.) (На заднем плане погост в деревне Гора Жеребцова) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.507 - Деревня Камениха (Амосовская). Часть жилой застройки (фото Е. Келарева (Онега), май 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.508 - Деревня Камениха (Амосовская). «Новые» острова. Вдали слева - мыс «Чигвин Нос» (фото С. Шадрина (Онега), 14 июня 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.509 - Деревня Камениха (Амосовская). Этюд (автор съемки неизвестен, 8 апреля 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.510 - Деревня Камениха (Амосовская). Основная застройка. Вид с дороги (автор съемки неизвестен, 8 апреля 2007 г.) [82, фото].
Также необходимо упомянуть о сведениях, представленных на портале «Onegaonline.ru» в виде набора фотографий общего вида деревни Машелиха и существовавшей в ней ранее деревянной шатровой часовни Сретения Господня, построенной в 1774 году (рисунки 2.511-2.513) [82, фото].

Рисунок 2.511 - Деревня Машелиха (автор съемки неизвестен, 1911 г.) [82, фото].

Рисунок 2.512 - Деревня Машелиха (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.513 - Деревня Машелиха (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
В перспективе Подпорожская групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.1.17 Порогско-Павловская ГСНМ, Кокоринская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
Порогско-Павловская групповая система населенных мест находится в центральной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 25 км к югу от районного центра - города Онеги,а входящее в ее состав село Порог является административным центром Кокоринской сельской администрации.
Порогско-Павловская ГСНМ расположена у места слияния рек Вонгуды и Онеги и состоит из деревень Большая Сторона (1) и Порожская (2), расположенных на правом (восточном) берегу реки Онеги и разделенных рекой Вонгудой, и из деревни Павловская (3), находящейся на левом (западном) берегу реки Онеги (рисунки 2.1, 2.30, 2.31, 2.514) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 22; 82, карты].
На период полевых работ Историко-архитектурной экспедиции Петрозаводского государственного университета 1987 года в деревне Большая Сторона насчитывалось 119 жилых домов, в деревне Порожская - 30 жилых домов, а в деревне Павловская - Малая сторона - 22 жилых дома (рисунок 2.515). Архитектурно-типологическое описание планировки и застройки Порогско-Павловской ГСНМ, содержащееся в формуле «К1/2(2)(01.4->01.2), ПК1/1, Т3/2(1), ПТ2, В4/_(4):[В2/1(1)+В3/1(2)+В3/2(3)], ПВ5: [ПВ4:[ПВ2+ПВ3]/2(3)(01.1)(02.2)(03.2)(04.1)->ПВ3/2(1)(01.1)(02.1)], Р1», приведено в приложении А и в таблице Б.1.
К фрагменту топографической карты окрестностей села Порог 1970-х годов, опубликованной на портале «Onegaonline» в разделе «Село Порог», приложена фотография, выполненная неизвестным автором с изображением существовавшего в селе храмового комплекса, состоявшего из двух церквей (рисунки 2.516-2.217) [82, фото].
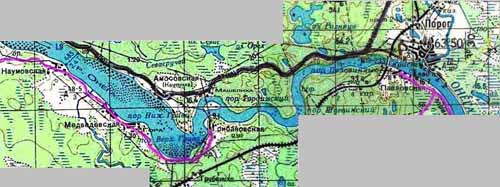
Рисунок 2.514 - Село Порог (дд. Большая Сторона и Порожская) Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1970-х гг.) [82, карта].
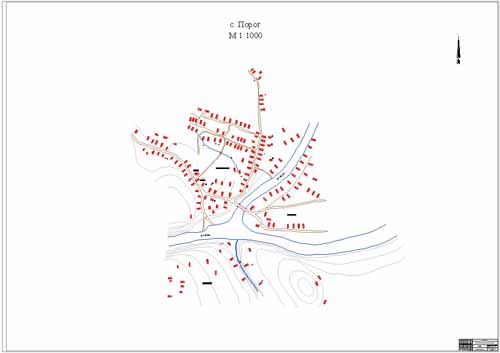
Рисунок 2.515 - Село . Порог (дд. Большая Сторона и Порожская), Кокоринская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
На этом же портале опубликована фотография села Порог, сделанная с самолета (автор и время съемки неизвестны) (рисунок 2.518), с пояснением из статьи краеведа Е. Некрасовой под названием «Там, где семужка живет», опубликованной в газете «Онега» 5 апреля 2011 года [52; 82, фото].

Рисунок 2.516 - Село Порог (дд. Большая Сторона и Порожская) Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1970-х гг.) [82, карта].

Рисунок 2.517 - Село Порог (дд. Большая Сторона и Порожская). Храмовый комплекс. Каменная теплая церковь Рождества Христова с приделом в честь Казанской Иконы Божьей Матери, построенная в 1808 году (справа), и каменная холодная Покровская церковь с приделом Петра и Павла, заложенная в 1823 году и освященная в 1827 году (слева). Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.518 - Село Порог (дд. Большая Сторона и Порожская) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
«Порог. Древний промысел. На многих картах есть названия, связанные с естественными преградами. Для древних новгородцев эти пороги были серьезным испытанием, они дали им название святого Николая, защитника всех страждущих на воде. Легенды говорят о том, что не одна лодка была перевернута бурным потоком, не обходилось и без человеческих жертв. Рядом с языческим мольбищем коренных жителей, чуди белоглазой, появляется сначала часовня, потом и церкви. Всяк проезжающий вниз, к студеному морю, купец или странник ставил свечку, здесь заказывались панихиды на помин души.
В 1895 году Порог насчитывал 100 дворов с 585 жителями обоего пола, и за рекой было расположено 35 дворов с 215 жителями. В Подпорожье, где мы уже с вами были, тогда проживало 1232 человека. Царь - рыбы, вот что привлекало новгородцев селиться в Пороге. На картах 19 века Порог и Онега отнесены к владениям новгородской Софии, жителям приписывалось платить Новгороду «по 2 куницы с обжи».
Интересны пороги, названные Кокоринскими. Кокоринские пороги состоят из 26 валунных переборов. Один из них, возле деревни Порог, получил название Великой Головы, так что на всех основных онежских порогах есть своя «Голова». По Кокоринским порогам проходит моренная гряда, и берега реки опять повышаются отдельными «горами». Здесь находится верхняя граница устьевой области Онеги. Ниже порогов ширина реки начинает быстро возрастать, у города Онеги она достигает уже 900 метров, затем увеличивается до 1500 метров, и русло реки разделяется на два рукава. Правый получил название Двинского, а левый - Карельского. Между ними лежит скалистый, поросший соснами остров Кий. Вокруг уже совсем явственно ощущается море - вода становится холоднее и прозрачней, волны положе и больше, ветер свежее, а берегов почти не видно. Из-за резкого поднятия русла у Кокоринских порогов и уменьшения глубин прилив в полную силу ощущается только первые 5-7 километров, выше по течению Онеги приливная волна начинает затухать. Уже в 15 километрах выше устьевого створа, высота полной воды уменьшается на 60 процентов. Занимались порожане ловлей рыбы, со старинных времен сохранились рыболовные снасти, искусство плетения верши (для ловли миноги) передается из поколения в поколение. И поныне порожская семга - самая вкусная, востребованная на любом столе» [82; 52].
Дополняя выше приведенную характеристику Порогско-Павловской групповой системы населенных мест, следует, во-первых, упомянуть о сведениях из «Краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской епархии». 1896 года, согласно которым становится известно, что Порожский «приход в настоящее время (на 1895 г. - ред.) состоит из одного села Порожскаго, разделеннаго р. Онегой на две части: Большую, в которой к 1895 г. проживало 255 м.п. и 330 ж.п. в 100 дворах, и Малую, за рекой, в 35 дворов и жителей: 104 м.п. и 111 ж.п. Расстояние до г. Архангельска - 257 верст, до г. Онега 23 в., до Подпорожскаго пр-да - 9 в., до Вонгудскаго - 4 в., до Корельскаго - 17 в. Судя по древним документам, Порожский приход образован в 17 веке и ранее назывался приходом «Петра над Порогом» или Петро-Павловским.
О прежних деревянных храмах документов не сохранилось, так как они сгорели при 3-х пожарах: в 1682 г., 1770 г.,1806 г. В настоящее время в приходе две каменные ц-ви: первая, теплая, Рождества Христова с приделом в честь Казанской Иконы Божией Матери была устроена по благословению епископа Евлампия и освящена по благословению епископа Парфения 10 и 11 февраля 1808 г. священником Кожскаго прихода о. Иоанном Тимофеевым; вторая, холодная, Покровская, с приделом Петра и Павла, заложенная в 1823 г. и освященная 15 и 16 января 1827 г. свящ. Городецкаго пр-да о. Дмитрием. Оба этих храма устроены усердием прихожан, особенно Ивана Дружинина и Алексея Крутикова. Утварью ц-ви достаточны, а вот ризницей скудны. Кроме кружечно-кошельковаго сбора (на 1894 г. - 20 р. 50 коп.) и свечной торговли (1894 г. - 33 р. 75 коп.), в пользу ц-вей имеется билет в 1000 р., пожертвованный в 1892 г. крестьянином Михаилом Никифоровичем Привалихиным для того, чтобы проценты, в количестве 50 р. в год, расходовались на ремонт ц-вей и причтовых зданий или, в случае крайней необходимости, на обновление ризницы и церковной утвари.
Причт, состоящий из священника и псаломщика, владеет 3-мя десятинами 1209-ю саженями пашни и около 9-ти десятин сенокосов. Жалования причт получает (с 3-го мая 1894 г.) 392 р. и доходов от требоисправления от 80 до 100 р. Причтовых домов два: священника, построенный в 1857 г., псаломщика - в 1880 г.
Для обучения детей в приходе имеется сельская школа, в которой в 1894-95 уч. гг. обучалось 26 мальчиков и 12 девочек. Закон Божий преподает местный священник и получает жалования 30 р. в год, другие предметы преподает учительница Пелагея Штенникова, окончившая курс обучения в Архангельской гимназии, с жалованием в 180 р. в год. На наем квартиры с отоплением, освящением и прислугой тратится 36 р. в год.
Имена свящ. Порожскаго пр-да до 1808 г. неизвестны. С этого же года служили: 1) о. Пётр Иванов - до 1818 г.; 2) о. Андрей Попов - в 1819 г.; 3) о. Прокопий Петров - с 1 марта 1821 г. по 23 января 1830 г.; 4) о. Федор Никитин - с 1830 по 1839 гг.; 5) о. Георгий Пасторов - с 1839 по 1843 гг.; 6) о. Николай Ивановский - 1843 по 1865 гг.; 7) о. Климент Иванов - с 1865 по 1872 гг.; 8) о. Афанасий Попов - с 1872 по 15 февраля 1892 г.
Ныне священником состоит о. Иоанн Иванов Фёдоров, 55 лет, окончивший курс обучения в духовном уч-ще, на службе в должности причетника с октября 1867 г., в сане диакона - с 18 октября 1880 г., в сане свящ. - с 21 ноября 1889 г., а в Порожском пр-де -с 15 февраля 1892 г. Псаломщик, Михаил Петров,46 лет, исключенный из 1-го класса дух. училища, на службе с 1866 г., на данном приходе - с 16 августа 1890 г.» [36].
Упоминания о церквах Подпорожского погоста содержатся также в работе краеведа Г.Б. Дерягина «Окрестности Онеги», опубликованной на сайте «Sudmed-nsmu.narod.ru» [25]. «Через несколько километров выше Подпорожья путнику открываемся весьма впечатляющий вид на пороги. Вода здесь перекатывается через камни, незамерзшая даже в самые жестокие морозы из-за стремительного течения, кипит, играет в обрамлении лесистых берегов - зрелище впечатляющее. Этот порог был весьма серьезным испытанием торговым караванам и прочим путникам. Не одна лодка перевернута здесь водой. Новгородцы этому порогу дали имя Святого Николая. До сих пор в народе эти пороги зовут Никольскими. Ближе к левому берегу среди камней порогов имеется стремнина, по которой и в древности, и в настоящее время можно с некоторым риском преодолеть это опасное место. Не раз через эти пороги проходил Никита Минов, он же беглый иеромонах Никон, он же игумен Кожозерского монастыря, он же Патриарх Московский и Всея Руси, неустанный реформатор русской православной церкви, «патриарх-богатырь» - по выражению историка Соловьева. Жизнь Никона тесно связана с Поонежьем, а монастырская жизнь, монастырское строительство этого края тесно связаны с именем Никона.
От порогов открывается вид на железнодорожный мост, за которым сразу видны постройки села Порог. Железнодорожный мост и вся железная дорога на участке Обозерская - Беломорск, соединяющая Мурманск и Вологду, были построены в 1941 году. Эта дорога изначально предназначалась для доставки ленд-лизовских грузов из Мурманска на фронт. Сдали дорогу в строй поздней осенью 1941 года с завершением строительства этого моста через реку Онегу. Дорога и мост построены силами заключенных «врагов народа». Людей заставляли строить опоры моста, находясь по грудь и шею в ледяной осенней воде. Вооруженная охрана, находясь чуть ниже по течению, стреляла в жертв бурного потока как в беглецов. Лагерь располагался на противоположном селу берегу. Пожилые люди рассказывали, что заключенные были сильно истощены, по дороге на работу они ели траву, умерших на работе закапывали прямо в насыпь. Так что поезда в буквальном смысле идут по костям замученных коммунистическим режимом людей. Вдоль указанного отрезка железной дороги имеются скрытые массовые захоронения. Руководил строительством дороги прославленный полярный комиссар И.Д. Папанин. Все станции вдоль этого участка железной дороги - бывшие лагерные зоны.
Вот мы и подъехали к селу Порог. Порожский приход образовывало одно село Порожское, стоявшее на обеих сторонах реки. В XVII веке здесь был образован приход, но церкви часто горели, поэтому до настоящего времени они не дошли. На 1 января 1896 года в селе имелось 135 дворов, 770 жителей. Всего история зафиксировала в селе три пожара церквей: в 1682, в 1770, в 1806 годах. Последний раз теплый Христорождественский храм поставлен в 1808 году (его незатейливые каменные развалины сохранились до сих пор), а холодный, Покровский - в 1823 году.
Русское село Порог очень древнее, известно с XII века. Первоначально оно относилось к владениям Новгородской Софии. Еще с древнейших времен здесь стояла небольшая крепость, которую первопроходцы поставили на своем пути при дальнейшем продвижении на север. Под защитой ее стен можно было уберечься от лихих людей и скандинавов, которые регулярно нападали на прибрежные села. Позднее здесь была устроена таможня по сбору пошлины с провозимых товаров. После присоединения новгородских земель к Москве, Иван Грозный грамотой от 1554 года утверждает таможню, а также свое монопольное право по сбору пошлин в казну Великого князя. По указанной грамоте при таможне полагался отряд стрельцов численностью до 25 человек. Им не возбранялось в свободное время заниматься промыслом. Этот промысел заключался в спуске и подъеме лодок с грузом через Никольские пороги. За это стрельцы получали отдельную плату с владельцев товаров.
В 1673 году на околице села была жестокая битва между крестьянами и ротой стрельцов, усмирявших взбунтовавшихся крестьян. Восстанию крестьян способствовали многочисленные проповедники старообрядчества и беглые представители разгромленного войска Степана Разина. Крестьяне выступили в поддержку Соловецкого восстания и против реформ Никона. В том бою со стороны стрельцов, прибывших сюда из под стен Соловецкого монастыря, было потеряно 4 зуба, сломано 2 ребра и выбит 1 глаз. Потери же со стороны бунтовщиков история умалчивает. Однако известно, что «мужики были биты батогами несщадно» [25].
Интерес также представляют сведения из обзорной статьи слушательницы «Центра дополнительного образования» города Онеги И Лукичевой под названием «Прошлое и настоящее с. Порог», подготовленной в 2008 году (МОУ ДОД «Центр дополнительного образования». «Прошлое и настоящее села Порог», автор Лукичева Ирина, т/о «Фантазеры», руководитель Сидорова Н.С., г. Онега. 2008 год [82; 42]) с использованием данных из «Краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской епархии». 1896 года [36] и из работы краеведа Н.Н. Харитонова «Онежский альбом», опубликованной в 2003 году (Харитонов Н.Н. «Онежский альбом». ЗАО «Архангельский печатный двор». 2003 год) [109].
«И так, село Порог находится на берегу реки Онеги, в 25-ти километрах от города Онеги и имеет очень удобное месторасположение: рядом река, автодорога и железная дорога. И еще через Порог протекает небольшая речка Вонгуда и впадает в реку Онегу. Летом она совсем небольшая, и ее без особого труда можно перейти вброд, например, чтобы сходить в гости на противоположный берег, и не обходить по автомобильному мосту (недавно мост сделан по-новому, стал намного красивее). Зато весной, когда она разливается в половодье, уровень воды поднимается в ней в несколько раз. Дома в Пороге расположены вдоль реки Онеги, по обе стороны речки Вонгуды и на холмистом противоположном берегу реки Онеги - там расположена деревня Павловская, еще ее называют - Малая сторона. Вот именно там я и родилась.
Теперь о том, как появилось само название Порог. Дело в том, что реку Онегу близ села перегораживают пороги: на пути реки встаёт преграда из камней, о которые вода запинается, как мы за порог в доме, или в квартире. Река в местах порогов имеет очень большое течение, перекатывается по камням с шумом и брызгами. Уровень воды от Порога до города снижается на двенадцать метров, девять из которых приходятся на участок от Порога до Подпорожья. Пороги эти называются Кокоринскими, а также каждый отдельный поворот, изгиб, выступ имеет свое название: Завал, Три омута, Быструха, Половина, Золотой Рожок, Коса Утка и другие.
У Порога богатая история. Судя по древним документам, Порожский приход образован в 17 веке и ранее назывался приходом «Петра над Порогом» или Петро-Павловским (впрочем, название деревни Павловская сохранилось) еще раньше, совсем уж давно в этих местах обитали племена «чуди белоглазой» - это такие племена, жившие на берегах реки Онеги до прихода туда Новгородцев. Новгородцы, приходя на север и обустраиваясь, строили храмы. В Пороге тоже были храмы: из «Краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской Епархии. Онежский уезд. 1896 г.» известно, что сначала в Пороге были деревянные храмы; по ним документы не сохранились. Но известно, что они горели в пожарах в 1682 г., 1770 г. и 1806 г., затем были построены каменные: в 1808 г. церковь Рождества Христова и вторая, Покровская, заложенная в 1823 г. и освященная в 1827 г.
Остатки одной из церквей сохранились до настоящего времени. Во времена, когда церкви рушили, из нее был сделан клуб, потом здание пустовало, а в 2004 г., еще и пострадало в пожаре, выгорели все деревянные конструкции внутри церкви, так что сейчас остались только развалины.
В Пороге много достопримечательностей и просто красивых мест. Одной из достопримечательностей является телевышка, построенная в 1972 году, «Эйфелева башня» местного масштаба. Высота ее составляет 186 метра, да к тому же стоит она на высоком холме, поэтому видна издалека. А в темное время суток на вышке зажигаются лампочки, и она становится похожа на новогоднюю елку! Когда вышку строили, там работало много людей, а еще там работали мой папа и дедушка.
Порог славится рыбным промыслом семги и миноги. В давние времена сорт семги «Порог», вылавливаемый в реке Онеге, поставлялся к царскому столу, так как был отменного качества.
Железнодорожный мост через реку Онегу - тоже большая достопримечательность. Он расположен как раз на том месте, где пороги самые бурные. Когда находишься на мосту и смотришь вниз, аж страшно становится и дух захватывает - такая высота, такой напор воды и как его строили! Ведь если упасть в реку с такой высоты - маловероятно, что останешься в живых. Железнодорожный мост имеет большое значение, ведь по нему идут поезда из центральной России в Карелию и на Мурманск. А еще мост связывает Порог с Малой стороной.
Между холмами, на которых стоят вышка и железнодорожный мост, расположено живописное местечко Халга. Еще там есть небольшое озерцо. Весной, в «большую воду», река его полностью заливает, а когда уровень воды спадает, озерцо соединяется с рекой небольшим ручьем. Летом на Халге постоянно можно встретить рыбаков и отдыхающих, не только местных, но и из города приезжают, и это не удивительно - где еще такую красоту найдете!
Есть в Пороге памятник героям, погибшим во время Великой Отечественной войны, он находится в центре села, рядом с остановкой; на памятнике их имена и фамилии. За памятником бережно ухаживают, приносят туда цветы, чтоб почтить память погибших односельчан.
Сейчас население Порога - 552 человека, а Муниципального образования «Порожское», куда входят: Вонгуда, Усть-Кожа, Подпорожье и другие расположенные рядом деревни - 1114 человек. Подпорожье находится на другой стороне реки, где и Павловская, только поближе к городу и состоит из нескольких деревень, одна из которых называется Жеребцова Гора. В ней много всего интересного, кто был, тот знает, там очень красивая, старинная Владимирская церковь 1757 года постройки. А еще там, на берегу реки, можно найти кучу глиняных «игрушек», надо лишь донести их до дому и высушить; делает их сама река, а Вам лишь остается их подравнять, сделать глазки, носик, ротик - и вот у Вас уже забавный мишка!
В Пороге есть школа до 9 класса, детский сад, магазины, клуб, сельская администрация, почта, сберкасса, котельная, построены детские игровые площадки для малышей, оборудованы спортивные площадки для волейбола и футбола. Раньше в Пороге был речной порт, и было много судов, они могли ходить вверх по реке до Турчасова и Ярнемы (докуда река судоходна), а сейчас всего один теплоход «Заря». Он возит пассажиров в д. Усть-Кожу. На Пороге много лодок - ведь жизнь в Пороге тесно связана с рекой, а среди местного населения очень много рыбаков, лесников, охотников, а также сплавщиков, так как по реке Онеге сплавляют лес. Лес сплавляют сверху по реке в плотах: часть по большой воде проводят через пороги в город, а часть с помощью больших кранов грузят для вывозки на автомобили» [82].
Необходимо также отметить, что на портале «Оnegaonline.ru» в разделе «Село Порог» представлен достаточно развернутый набор фотографий с изображениями общего вида поселения и окружающей его местности. В их числе: три фотографии неизвестных авторов, датируемые 2005-2006 годами, по одной фотографии В. Кузьмина (Онега) и В.К. Воробьева, четыре фотографии С. Шадрина (Онега), датируемые 2006 годом, одна фотография И. Иконникова (Онега) 2007 года и десять фотографий И. Лукичевой, выполненные в 2006-2008 годах (рисунки 2.519-2.533) [82, фото].

Рисунок 2.519 - Село Порог. Скоро ледоход (фото И. Иконникова (Онега), 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.520 - Село Порог. Местечко Халга и начало порогов (фото И. Лукичевой (Порог), 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.521 - Село Порог. Небольшое озерцо в местечке Халга (фото И. Лукичевой (Порог), 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.522 - Село Порог. Обе достопримечательности. Под мостом - с. Порог (Большая Сторона) (автор съемки неизвестен, 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.523 - Село Порог. Ж\д мост в действии. Лесная перевалочная база (слева) и д. Павловская (Малая Сторона) справа (автор съемки неизвестен, 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.524 - Село Порог. Панорама с доминантами. Вид с реки выше села (фото И. Лукичевой (Порог), 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.525 - Село Порог. Вид с ж/д моста. Телерадиовышка (1972 г.) (фото И. Лукичевой (Порог), 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.526 - Село Порог. Устье р. Вонгуды. На горизонте - огромное болото Большой Мох (фото И. Лукичевой (Порог), 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.527 - Село Порог. Центр села с пристанью (фото И. Лукичевой (Порог), 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.528 - Село Порог. Центральная часть. Вид с высокого левого берега р. Онеги (автор съемки неизвестен, 2005 г.) [82, фото].

Рисунок 2.529 - Село Порог. Пристань. Теплоход «Заря» (фото С. Шадрина (Онега), 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.530 - Село Порог. И здесь была война. Покровская ц. (1823 г., до недавнего времени использовалась под клуб) после пожара 2004 г. (фото В. Кузьмина (Онега), время съемки неизвестно) [82, фото].

Рисунок 2.531 - Село Порог. Вид на ж\д мост от д. Павловской (автор съемки неизвестен, 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.532 - Деревня Павловская (Малая Сторона). Часть с. Порог на л.б. р. Онеги (фото С. Шадрина (Онега), август 2006 г.) [82, фото].

Рисунок 2.533 - Деревня Павловская (Мал. Сторона) Вид с ж/д моста. (фото И.Лукичевой (Порог), 2007 г.) [82, фото].
Также необходимо отметить, что село Порог (дд. Большая Сторона и Порожская) ранее относилось к категории акцентированных поселений, поскольку в нем существовал храмовый комплекс, состоящий из каменной теплой церкви Рождества Христова с приделом в честь Казанской Иконы Божьей Матери, построенной в 1808 году, и каменной холодной Покровской церкви с приделом Петра и Павла, заложенной в 1823 году и освященной в 1827 году [36; 82].
В перспективе Порогско-Павловская групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.1.18 Пурнемская ГСНМ, Пурнемская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
Пурнемская групповая система населенных мест находится в северной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 103 км к северу от районного центра - города Онеги и является административным центром Пурнемской сельской администрации.
Пурнемская ГСНМ расположена на левом северо-восточном берегу реки Пурнемы, впадающей с севера в Онежскую губу Белого моря, образовалась в результате срастания деревень Верховье (дд. Верховье (1) и Заболотье (2)) и Низ (дд. Середний Посад (3), Низ (4), Клюка (5) и Заканава (6)) (рисунки 2.1, 2.30, 2.534-2.535) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 43, с. 128, рис. 17.3; 44, с. 28, 160, прим. 21; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 11; 82, карты].

Рисунок 2.534 - Село Пурнема - Пурнемское - Пурнемская. Топографическая карта 1970-х гг. [82, карта].

Рисунок 2.535 - Село Пурнема - Пурнемское - Пурнемская, Пурнемская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
На период полевых работ Историко-архитектурной экспедиции Петрозаводского государственного университета 1987 года в селе Пурнема - Пурнемское - Пурнемская (д. Верховье (дд. Верховье и Заболотье) и д. Низ (дд. Середний Посад, Низ, Клюка и Заканава)) насчитывалось 156 жилых домов. Архитектурно-типологическое описание планировки и застройки Пурнемской ГСНМ, содержащееся в формуле «К1/2(2)(01.5->01.1), ПК1/1, Т3/1, ПТ4:[ПТ1+ПТ3], В4/_(4):[В2/1(1)+В3/1(2)], ПВ2/1(1)(01.1)(02.1), Р1», приведено в приложении А и в таблице Б.1.
Дополняя выше приведенную характеристику Пурнемской групповой системы населенных мест, следует также упомянуть о сведениях из «Краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской епархии». 1896 года [36], согласно которым становится известно, что Пурнемский приход «состоит из одного селения Пурнемы, расположенного в 30 верстах от Нижмозера к северу, при устье реки того же имени, впадающей в Онежский залив. Дворов в селении на 1.01.1895 г. было 132, жителей: 374 м.п. и 453 ж.п.
Время образования прихода неизвестно; из двух, ныне существующих, церквей одна, - во имя Николая Чудотворца, - построена в 1618 г. Она обшита тесом, окрашена белилами и, не смотря на свои 277 л., прочна. Другая ц-вь - «теплая», построена в 1860 г., имеет 2 престола: главный, во имя Рождества Х-ва, и придельный - во имя Священномученика Власия. Ц-вь эта так же обшита и окрашена. Церковная утварь, ризница, другие принадлежности - посредственны. В архиве имеются древние документы. На содержание ц-вей, кроме обычных доходов, поступает арендная плата с сенокоса в 2 десятины 1170 саженей в размере 12 р. 85 к .(1894 г.).
3 фев. 1889 г. в приходе открыта церковно-приходская школа, она помещается в наемной квартире с годовой платой от общества в 15 р. Учащихся в 1894 г. было: 26 м. и 6 д. Законоучителем состоит местный священник бесплатно, а учительницею - кончившая курс в Арх. Епархиальном женском училище девица Клавдия Иванова, с вознаграждением от общества в 120 р. в год.
Причт, состоящий из священника и псаломщика, получает жалования из казны: 150 р. 85 к. и 49 р. соответственно; за требоисправления в 1894 г. поступило 119 р. 7 к. Земли во владении причта: пахотной - 4 дес. 950 саж. сенокосной - 8 дес. 1800 саж.; земля малопроизводительна и только в урожайные годы окупает труды по ея обработке.
Священником состоит о. Николай Васильев Зуев, 22 л., по прошению уволился из 6 кл. Арх. Дух. семинарии, в сане и на настоящем месте с 28 ноября 1894 г. Псаломщик Пётр Фёдоров Спасский, 18 л., кончивший курс Вологодскаго дух. училища, в должности и на месте с 12 дек. 1894 г.» [36; 82].
Интерес также представляют статистические данные, опубликованные на портале «Onegaonline» в разделе «Деревня Пурнема», в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [82]. Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о селе Пурнемское, правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 235; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о селе Пурнема (д. Пурнемская), в котором на этот момент насчитывалось 96 дворов, в которых проживало 592 человека (286 - мужского и 306 - женского пола) [82; 92, с. 46].
В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о деревне Пурнемская. Количество жилых дворов в ней на данный момент составляло 150 единиц. Количество населения: мужского пола - 434, женского пола - 508 (всего 942 человека). Деревня в это время относилось к Пурнемской волости Пурнемского сельского общества и соответственно к Пурнемскому приходу [14, с. 164-165; 82].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» имеется упоминание о селе Пурнема, в котором по переписи 1920 года насчитывалось 198 дворов, а количество населения: мужского пола - 406, женского пола - 633 (всего 1039 человек) [82; 94, с. 91]. В результате укрупнения волостей в 1924 году село Пурнема вошло в состав Кяндской волости Онежского уезда [82; 95, с. 24-25].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о селе Пурнема в составе Пурнемского сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 347; 82].
Упоминание о церквях Пурнемского погоста содержится также в работе краеведа Г.Б. Дерягина «Окрестности Онеги», опубликованной на сайте «Sudmed-nsmu.narod.ru» [25]. «Пурнемский приход. На 1 января 1895 г. было 132 двора, 827 жителей. Шатровая церковь Николая Чудотворца, 1618 г., а вторая, кубоватая церковь Рождества Христова поставлена в 1860 году» (рисунки 2.536-2.538) [25, фото].

Рисунок 2.536 - Шатровая церковь Николая Чудотворца, 1618 г., и кубоватая церковь Рождества Христова, 1860 г. Село Пурнема (фото Г.Б. Дерягина, 1980-е гг.) [25, фото].

Рисунок 2.537 - Церковь Николая Чудотворца, 1618 г. Пурнема (фото Г.Б. Дерягина, 1980-е гг.) [25, фото].

Рисунок 2.538 - Церковь Николая Чудотворца, 1618 г. Пурнема (фото Г.Б. Дерягина, 1980-е гг.) [25, фото].
Дополнить приведенную выше характеристику села Пурнема позволяют сведения из архива краеведческого музея города Онеги, подготовленные краеведом С. Головченко, с приложение фотографии общего вида села, выполненной В. Кузьминым (Онега) (рисунок 2.539) [82, фото].

Рисунок 2.539 - Село Пурнема - Пурнемское - Пурнемская. Общий вид. Архив музея г. Онеги (фото В. Кузьмина (Онега), время съемки неизвестно) [82, фото].
«Местоположение. Старинное поморское село. Расположено на западном побережье Онежского п-ва (т.н. Лямицкий (Онежский) Берег Белого моря), на высоком берегу, при устье одноименной реки. Расстояние от г. Онеги: морем, вдоль берега - ок. 70 км, сушей («зимник» через д. Нижмозеро) - ок. 100 км; до с. Лямца - ок. 25 км (дорога по берегу; см. карту в разделе «Пурнемский приход»). Летом, раз в неделю, из Онеги можно попасть на самолете Ан-2 (рейс «Архангельск - Онега - Пурнема»).
Деревни. Село разделено глубоким оврагом на две части, названия которых редактору пока не известны.
Приходские храмы (см. также раздел «Пурнемский приход»). Достопримечательности. Самый древний храм Поонежья - Никольская летняя шатровая ц. (1618 г.) - украшает это поморское село. Построенный вскоре после польско-литовского разорения, он много повидал и испытал за свои 390 лет… После закрытия (ок. 1930 г.) использовалась как колхозный зерновой склад. С севера было прирублено дополнительное складское помещение с высоким крыльцом - взвозом с площадкой для разгрузки телег (разобрано около 1990 г.). До ремонта 1990-1991 гг. храм находился в аварийном состоянии. В указанные годы полностью была отреставрирована глава, установлен новый крест, перекрыта кровля полиц вокруг шатра, отремонтирована кровля трапезной. В настоящее время храм не используется и нуждается в укреплении фундамента, в замене окладных венцов, в ремонте кровель.
Второй храм - зимняя Христорождественская ц. с приделом во имя Священномученика Власия (1860 г., заменивший одноименный храм 1762 г. постройки). После закрытия долго использовался под клуб. Сейчас не используется. Шатровая колокольня, 1775 г. постройки, разобрана. В 1990-1991 гг., у родника под названием «Холодничёк» (по дороге на Лямцу, на берегу моря) кооперативом «Квадр» (Онега), при помощи местных жителей была установлена часовня-крест. Плотник - Павел Залесских (Онега)» (рисунок 2.540) [82, фото].
«Население. На 1865 г. - 605 жителей при 96 дворах. К 1895 г. - 827 жителей при132 дворах. К 1918 г. - 744 (?) жителей при 190 дворах. На 1920 г. - 1039 жителей при 198 дворах. На 1998 г. - 221 житель при 85 постоянных хозяйствах. К 2008 г. - 203 жителя при 83 постоянных хозяйствах. Основные занятия жителей. Рыболовство и зверобойный промысел, сельское хозяйство, отходничество.
Административная принадлежность. В XIV-XVII вв. - владения Соловецкого монастыря (солеварни, пашни и рыбные тони). С 1785 г. по 1841 г. и с 1903 г. по 1924 г. - центр одноименной волости и сельского общества. С 1924 г. по 1958 г. - в составе Кяндского с/с. С 1958 г. - центр с/с. На 2008 г. - в составе МО «Покровское».
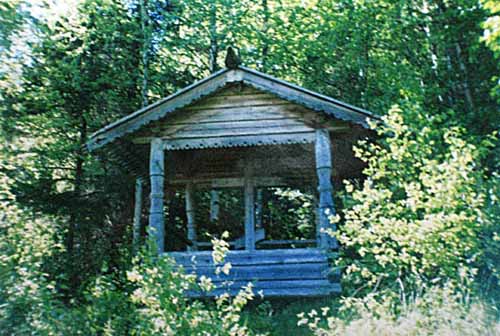
Рисунок 2.540 - Село Пурнема - Пурнемское - Пурнемская. Часовня - крест. Установлена в 1990-1991 гг. по дороге к д. Лямца, у святого, по преданию, родника - «Холодничка». Плотник - Залесских Павел (Онега), ныне покойный (фото Е. Савиной (Онега), 2005 г.) [82, фото].
Хозяйственный статус. В период коллективизации, в 1930 г. в селе организован колхоз «Беломор», вошедший в товарищество по добыче рыбы (сс. Лямца и Нижмозеро), в 1957 г. переименованный в «40 лет Октября». С 1960 г. началось объединение колхозов сс. Пурнемы, Лямцы и Нижмозера в один рыболовецко-животноводческий колхоз «40 лет Октября», существующий по сей день» [82].
Необходимо также упомянуть о сведениях, представленных на портале «Оnegaonline.ru» в виде набора фотографий общего вида села Пурнема и его отдельных построек и сооружений (рисунки 2.541-2.557) [82, фото].

Рисунок 2.541 - Село Пурнема - Пурнемское - Пурнемская. Устье р. Пурнемы на «большой» воде. На море - прилив. Вид с уровня главы Никольского храма (автор съемки неизвестен, 1990 г.) [82, фото].

Рисунок 2.542 - Село Пурнема - Пурнемское - Пурнемская. Устье р. Пурнемы и восточная часть села. Фото с главы Никольской церкви (автор съемки неизвестен, 1990 г.) [82, фото].

Рисунок 2.543 - Село Пурнема - Пурнемское - Пурнемская. Вид с борта АН-2 (фото В. Кузьмина (Онега), конец 1990-х гг.) [82, фото].

Рисунок 2.544 - Село Пурнема - Пурнемское - Пурнемская. Золотая осень. Западная околица села. Дорога в д. Лямцу (автор съемки неизвестен, 1990 г.) [82, фото].

Рисунок 2.545 - Село Пурнема - Пурнемское - Пурнемская. Храмовый ансамбль. Теплая Христорождественская церковь (1860 г.) и холодная Никольская церковь (1618 г.). Фото после 1991 г. из фондов музея г. Онеги [82, фото].

Рисунок 2.546 - Село Пурнема - Пурнемское - Пурнемская. Христорождественская церковь. Вид с северо-запада (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.547 - Село Пурнема - Пурнемское - Пурнемская. Христорождественская церковь. Вид с северо-запада (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
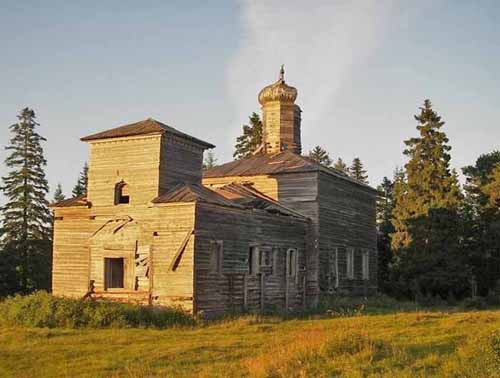
Рисунок 2.548 - Село Пурнема - Пурнемское - Пурнемская. Христорождественская церковь. Вид с юго-запада (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.549 - Село Пурнема - Пурнемское - Пурнемская. Храмовый комплекс. Шатровый летний Никольский храм (1618 г.) - старейший в Поонежье, Христорождественская зимняя ц. (1860 г.). Кадр из фильма Г. Чухина (Онега), 2008 г. [82, фото].

Рисунок 2.550 - Село Пурнема - Пурнемское - Пурнемская. Обсохла навсегда. Кадр из фильма Г. Чухина (Онега), 2008 г. [82, фото].

Рисунок 2.551 - Село Пурнема - Пурнемское - Пурнемская. Встреча пресной воды с соленой. Кадр из фильма Г. Чухина (Онега), 2008 г. [82, фото].

Рисунок 2.552 - Село Пурнема - Пурнемское - Пурнемская. Овраг в западной части села. Кадр из фильма Г. Чухина (Онега), 2008 г. [82, фото].

Рисунок 2.553 - Село Пурнема - Пурнемское - Пурнемская. Трудовые будни. Кадр из фильма Г. Чухина (Онега), 2008 г. [82, фото].

Рисунок 2.554 - Село Пурнема - Пурнемское - Пурнемская. Отделение связи. Кадр из фильма Г. Чухина (Онега), 2008 г. [82, фото].

Рисунок 2.555 - Село Пурнема - Пурнемское - Пурнемская. Храмовый комплекс. Вид с запада (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.556 - Село Пурнема - Пурнемское - Пурнемская. Никольский храм. Вид с северо-запада (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.557 - Село Пурнема - Пурнемское - Пурнемская. Никольская церковь (1618 г.) во время ремонта. Перекрытие верхнего слоя кровли полицы шатра (фото А. Панкратова (Москва), 1991 г.) [82, фото].
Для общей характеристики Пурнемской групповой системы населенных мест (села Пурнема) интерес представляют сведения из статьи архитектора Ю.С. Ушакова «Памятники народного зодчества Беломорья - селения Нижмозеро и Пурнема» [108], опубликованной в сборнике «Архитектура - Материалы к XXIX научной конференции ЛИСИ», и из работы краеведа Б.Г. Дерягина под названием «Поморские села Пурнема и Лямца», опубликованной на сайте «Sudmed-nsmu.narod.ru» [26].
Обращают на себя внимание и две публикации, подготовленные доктором биологических наук, заведующим лабораторией биосистематики и цитологии Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, членом Совета Русского генеалогического общества, вице-президентом РГО А.В. Родионовым. Заглавие первой работы - «Из истории села Пурнема» [88], второй - «Поморские селения Онежского берега как полигон комплексных генеалогических и генетических исследований», опубликованной в 2003 году в «Известиях Русского генеалогического общества» [87; 90].
Упоминание о селе Пурнема имеются также в работе историка-языковеда И.А. Елизаровского «Язык беломорских актов XVI-XVII вв.» (1958 г.), представленной на портале «BVSV.livejournal.com» 27 января 2012 года в разделе «Вопросы к истории», «Население Северного Поморья в древности» [83], в статье заслуженного архитектора России, член-корреспондента Российской Академии архитектуры В. Кибирева, Деревянное зодчество», опубликованной в сборнике «Памятники Архангельского Севера» в 1983 году [32; 68], и в сообщении И. Балабанова «На поморской земле», опубликованном в газете «Вольный ветер» в октябре 2000 года и воспроизведенном на туристическом портале «Куда.ua» [10; 103].
Сведения о селе Пурнема содержатся также на портале «Старые карты Онежского уезда Архангельской губернии, границы уезда» [98, карты], на портале «Деревянное зодчество» («M-der.ru») в разделе «Русское деревянное зодчество: Типы поселений Русского Севера» [67], на портале «Наш Край» («Nashkraysev.ru») в разделах «Архангельские земли. История и культура Русского Севера. Архангельские тройники» и «Поселения и архитектура» [71], на порталах «Православные приходы и монастыри Севера» [72], «Readtiger.com» [83], «Karaed.ru» [80]. «Легкоход.com» [69], «Путешественники.ru» («Travellers.ru») [74] и «Рыбак» («Pbl6ak.ru») [76], а также на официальном сайте Ю. Огурцова «Моя Русь» [66].
В перспективе Пурнемская групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.1.19 Тамицкая ГСНМ, Тамицкая сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
Тамицкая групповая система населенных мест находится в северной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 35 км к северо-востоку от районного центра - города Онеги, а село Тамица - Тамицкое - Тамицы является административным центром Тамицкой сельской администрации.
Тамицкая ГСНМ расположена на левом и правом берегах в излучине реки Тамицы, впадающей с востока в Онежскую губу Белого моря, и образовалась в результате срастания деревень Тайбола (1), Низ (2), Галахов Ручей (3), Серечье (4), Церковный Холм (5), Верховье (6), Гринь-Наволок (7), Сутово (8) и Гора (9) (рисунки 2.1, 2.30, 2.558-2.562) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 11; 82, карты и фото].

Рисунок 2.558 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Топографическая карта 1970-х гг. [82, карта].
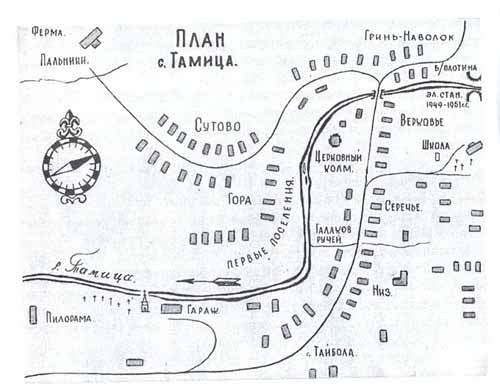
Рисунок 2.559 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Рисунок с. Тамица, из книги Виктора Киселева «ТАМИЦА страницы истории», изд. Онега, 2008 [82, карта].

Рисунок 2.560 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Космоснимок. На космоснимке кружком отмечено примерное место, где стояли церкви, и примерное место моста через реку [82, карта].

Рисунок 2.561 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Панорама со стороны моря (фото И. Иконникова (Онега), 2007 г.) [82, карта].
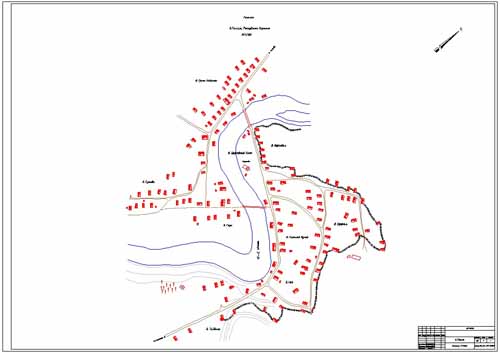
Рисунок 2.562 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы, Тамицкая сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
На период полевых работ Историко-архитектурной экспедиции Петрозаводского государственного университета 1987 года в селе Тамица - Тамицкое - Тамицы (дд. Тайбола, Низ, Галахов Ручей, Серечье, Церковный Холм, Верховье, Гринь-Наволок, Сутово, Гора) насчитывалось 152 жилых дома.
По характеру акцентировки пятна застройки Тамицкая ГСНМ относится к акцентированным групповым системам. О культовых сооружениях в селе Тамица - Тамицкое - Тамицы имеются следующие сведения. Храмовый комплекс, состоящий из деревянной однопрестольной одноглавой Сретенской (в честь Сретения Господня) церкви, построенной в 1839 году, и позднее замененной на пятиглавую каменную церковь, и пятиглавой Преображенской (во имя Преображения Господня) церкви с приделами: во имя Воздвижения Честного Креста и Введения во храм Пресвятой Богородицы, построенной в 1867 году, а также кладбищенской церкви во имя Всех Святых, построенной в 1633 году [36; 82].
Интерес также представляют сведения из статьи краеведа С. Головченко «Тамица», опубликованной на портале «Onegaonline», с приложением фотографии общего вида села, выполненной В. Кузьминым (Онега) в 2004 году (рисунок 2.563) [82, фото].
«Старинное поморское село расположено в 37 км от г. Онеги по трассе Онега - Архангельск, в нескольких километрах от устья р. Тамицы (см. карту в разделе «Тамицкий приход»). Возраст поселения - более 500 лет. Коренные жители - поморы, занимавшиеся морскими промыслами. В конце XIX в. население составляло 1249 человек при 180 дворах, к 1920 г. - 1253 человека при 247 дворах, к 1998г. - ок. 300 человек при 122 хозяйствах. Последних данных о количестве населения пока нет.
В окрестностях села, не в пример другим поморским деревням, хорошие урожаи приносили и хлебные культуры: ячмень, рожь. А при Советской власти выращивали даже пшеницу, кукурузу. До революции и в годы НЭПа многие тамичане работали на лесопильных заводах г. Онеги. Культовых построек в Тамице не сохранилось (их описание в разделе «Тамицкий приход»). На их месте был построен кирпичный дом культуры. Сейчас в селе - центральная усадьба рыболовецкого колхоза им. Ленина» [82].

Рисунок 2.563 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Часть жилой застройки. Въезд в село со стороны г. Онеги (фото В. Кузьмина (Онега), 2004 г.) [82, фото].
Дополняя выше приведенную характеристику Тамицкой групповой системы населенных мест, следует также упомянуть о сведениях из «Краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской епархии» 1896 года [36], согласно которым становится известно, что Тамицкий приход «состоит из с. Тамицкаго с тремя деревянными церквами в нем, д. Рябы (Сюземской), отстоящей от церквей в 25 верстах (у оз. Вонгозеро (Рябовское) - С. Головченко). Сообщение с ней затруднено.
С. Тамицкое расположено при устье р. Тамица, впадающей с востока в Онежский залив Белаго моря, и находится в 33 верстах от г. Онеги к северу. Жителей в приходе на 1894 г. состояло: 596 м.п. и 653 м.п., дворов - 180.
Образование прихода относится к 1633 г. Построенная в этом году ц-вь во имя Всех Святых существует доныне (на 1895 г. - С. Головченко), но считается уже кладбищенскою. Две остальные ц-ви: в ч. Сретения Г-ня, построенная в 1839 г., однопрестольная, одноглавая; она ветха и тесна и предполагается к замене новой каменною, на каковой предмет уже заготовлено ок. 200 тысяч кирпича и собрано 1386 р. 6 к. денег.
Другая, пятиглавая, построена в 1867 г. и имеет 3 престола: главный - во имя Преображения Г-ня и придельные: во имя Воздвижения Честнаго Креста и Введения во храм Пресвятыя Б-цы. И эта ц-вь нуждается в ремонте: крыша на ней сгнила и во всех местах дает течь.
Утварью, ризницею и богослужебными книгами ц-ви достаточны. Содержаться на суммы кружечно–кошельковаго сбора (в 1894 г. - 18 р. 89 к.), свечной прибыли (продано 9 пуд. 33 ф.), на средства приходскаго попечительства (к 1.01.1895 г - 369 р.55 к.), открытаго в 1889 г. Причт, состоящий из священника и псаломщика, владеет 4 десятинами 419 саженями пахотной земли и 18 десятинами 70 саженями сенокоса, получает жалования 176 р. 40 к. в год и доходов за требоисправления до 150 р. в год.
Церковноприходской школы нет, но есть сельское училище с особым учителем; Закон Божий преподает приходской священник. Им состоит о. Виталий Алексеев Попов, 38 л., окончил Тотемскую учительскую семинарию; с 1875 г. состоял учителем Онежскаго приходскаго училища, с 11 фев. 1888 г. - в сане священника на настоящем приходе. Псаломщик Степан Иванов Иванов, 30 л., окончил Архангельское духовное училище, на службе и в должности на настоящем месте с 16 дек. 1882 г.» [36].
Интерес также представляют статистические данные, опубликованные на портале «Onegaonline» в разделе «Село Тамица», в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [76]. Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о деревне Тамицкое, правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 235; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о селе Тамицкое (Тамицы), в котором на этот момент насчитывался 91 двор, в которых проживало 738 человек (369 - мужского и 369 - женского пола) [82; 92, с. 45].
В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о селе Тамица. Количество жилых дворов в нем на данный момент составляло 214 единиц. Количество населения: мужского пола - 638, женского пола - 719 (всего 1357 человек). Село в это время относилось к Тамицкой волости Тамицкого сельского общества и соответственно к Тамицкому приходу [14, с. 164-165; 82]. А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о селе Тамица. В это время в селе насчитывалось 274 двора, в которых проживало 1253 человека обоего пола [82; 93, с. 21].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» имеется упоминание о селе Тамица, в котором по переписи 1920 года насчитывался 281 двор, а количество населения: мужского пола - 472, женского пола - 730 (всего 1202 человека) [82; 94, с. 93]. В результате укрупнения волостей в 1924 году, село Тамица вошло в состав Кяндской волости Онежского уезда [82; 95, с. 24-25].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о селе Тамица в составе Тамицкого сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 346; 82].
Упоминания о церквях Тамицкого погоста содержатся также в работе краеведа Г.Б. Дерягина «Окрестности Онеги», опубликованной на сайте «Sudmed-nsmu.narod.ru» [25]. «Тамицкий приход в селе Тамица возле устья реки Тамица. К приходу была приписана еще одна деревня - Рябы, или Суземская, что стоит в 25 верстах выше по реке Тамица. На 1 января 1895 г. в приходе было 180 дворов, 1249 жителей. В 1633 г. освящена церковь Всех Святых, а в XIX веке поставили еще две церкви. Ничто не сохранили» [25].
Необходимо также упомянуть о сведениях, представленных на портале «Оnegaonline.ru» в виде набора фотографий общего вида села Тамица и его храмового комплекса (рисунки 2.564-2.597) [82, фото].

Рисунок 2.564 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Век минувший - век нынешний (авторы съемки неизвестны, 1910 и 2013 гг.) [82, фото].
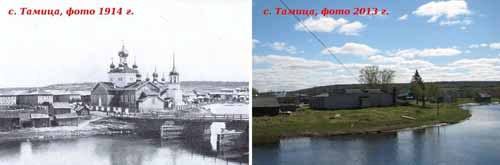
Рисунок 2.565 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Век минувший - век нынешний (авторы съемки неизвестны, 1914 и 2013 гг.) [82, фото].

Рисунок 2.566 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Церковь. Фото из книги «Не век жить - век вспоминать», стр. 222, изд. Товарищество Северного Мореходства, 2011 (автор съемки неизвестен. 1910 г.) [82, фото].

Рисунок 2.567 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Церковь. Фото из альбома «Северный край», изд. Архангельск, 2006 (в альбоме подписано как с. Турчасово) (автор съемки неизвестен, 1910 г.) [82, фото].

Рисунок 2.568 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы (автор съемки неизвестен, ориентировочно 1940-е гг.) [82, фото].

Рисунок 2.569 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Школа (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.570 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Октябрь 1966 г., на уборке картофеля в колхозе, на полях снег (фото из архива Г.И. Суханова) (автор съемки неизвестен, октябрь 1966 г.) [82, фото].

Рисунок 2.571 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.572 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.573 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.574 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Здесь когда-то стояли церкви ... (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.575 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Мост через р. Тамица (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.576 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.577 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. р. Тамица (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.578 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. р. Тамица (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
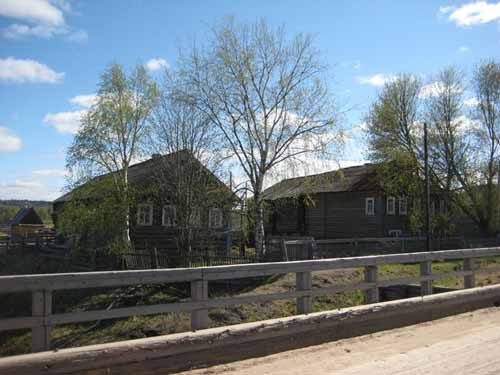
Рисунок 2.579 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.580 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Ледорезы у моста (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.581 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.582 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.583 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.584 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.585 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.586 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.587 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.588 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.589 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.590 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Жилой дом (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.591 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. р. Тамица (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.592 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Жилой дом (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.593 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Жилой дом (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
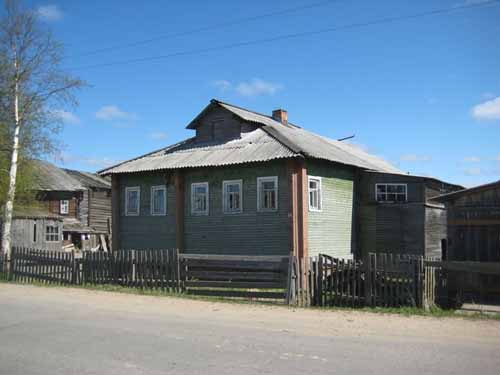
Рисунок 2.594 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Жилой дом (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.595 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Жилой дом (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.596 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.597 - Село Тамица - Тамицкое - Тамицы. Р. Тамица (фото В. Кузьмина (Онега), 2004 г.) [82, фото].
В перспективе Тамицкая групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.1.20 Унежемская ГСНМ, Малошуйская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область.
Унежемская групповая система населенных мест находится в северной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 136 км к западу от районного центра - города Онеги и на расстоянии 56 км к северо-западу от рабочего поселка Малошуйка - административного центра Малошуйской поселковой администрации.
Унежемская ГСНМ расположена на мысу Бранница, вдающемся с юга в Онежскую губу Белого моря, и образовалась в результате срастания нескольких мелких деревень в единое поселение под названием деревня Унежма - Унежемская (рисунки 2.1, 2.30, 2.80, 2.81, 2.83, 2.86, 2.151, 2.598-2.605) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 22; 57, карты; 58, карты; 75, карты; 77, карты; 82, карты; 107, с. 13, рис. 1].
Архитектурно-типологическое описание планировки и застройки Унежемской ГСНМ, содержащееся в формуле «К1/1, ПК1/1, Т2/2(1), ПТ1, В4:[В2/1(1)+В3/3(3)], ПВ3/2(1)(01.), Р1», приведено в приложении А и в таблице Б.1.
Сведения об Унежемской волости и о поседении Унежемское содержатся, в частности, на портале «Старые карты Онежского уезда Архангельской губернии, границы уезда» (адрес - http://starye-karty.litera-ru.ru/uezd/arh_karta-onezhskiy_uezd.html) [98]. «Онежский уезд был образован в 1780 г. в ходе административной реформы Екатерины Второй в составе Архангельской области Вологодского наместничества из земель Турчасовского стана Каргопольского уезда. В 1784 г. в составе указанной области вошёл в состав самостоятельного Архангельского наместничества (с 1796 г. губерния). Административным центром уезда был город Онега, известный с 1137 г. (изначально поселение с названием Погост на море)» (рисунки 2.91-2.92, 2.218) [98, карты].

Рисунок 2.598 - Деревня Унежма - Унежемская Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты ? г.) [82, фото].
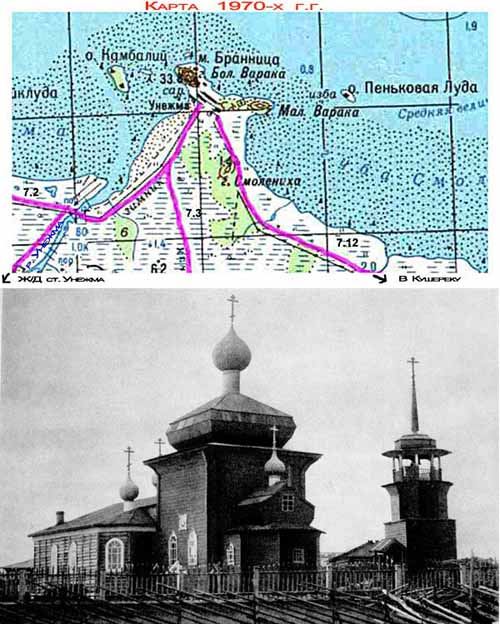
Рисунок 2.599 - А - Деревня Унежма - Унежемская Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1970-х гг.); Б - Деревня Унежма - Унежемская Онежского района Архангельской области. Храмовый комплекс. Общий вид с юго-востока (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
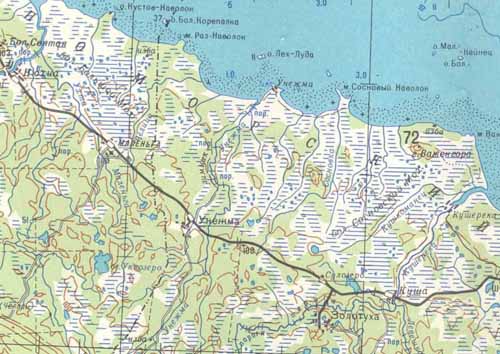
Рисунок 2.600 - Деревня Унежма - Унежемская Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1991 г.) [57, карта].
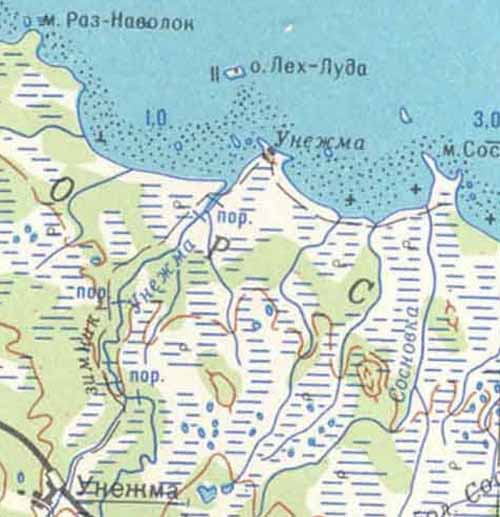
Рисунок 2.601 - Деревня Унежма - Унежемская Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1991 г.) [57, фото].
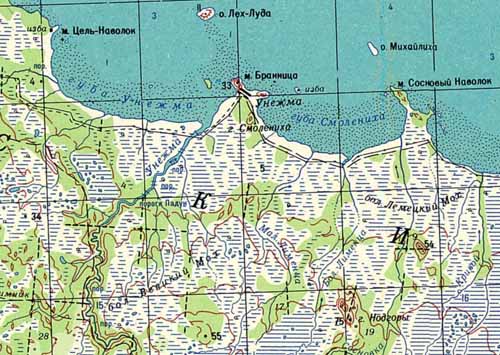
Рисунок 2.602 - Деревня Унежма - Унежемская Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1991 г.) [58, карта].

Рисунок 2.603 - Деревня Унежма - Унежемская Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1991 г.) [58, карта].

Рисунок 2.604 - Унежма со спутника. От ж/д станции Унежма до деревни Унежма (фотография с сайта http://maps.google.com/) [77, карта].

Рисунок 2.605 - Унежма со спутника. Вид деревни Унежма со спутника. Ниже Великой вараки можно рассмотреть даже отдельные дома! Хорошо видно также русло реки Унежма, впадающей в море (слева) (фотография с сайта http://maps.google.com/) [77, карта].
Дополняя выше приведенную характеристику Унежемской групповой системы населенных мест, следует также упомянуть о сведениях из «Краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской епархии». 1896 года, согласно которым становится известно, что Унежемский приход «находится в 80-ти верстах к западу от г. Онеги, в 30-ти в-х от Кушерецкаго прихода, в 31-й версте от Нюхотскаго прихода Кемскаго уезда, стоит на берегу Онежскаго залива. Состоит из одной д. Унежма с 80 - ю дворами и жителями: 259 м.п. и 295 ж.п. (1896 г.). Когда образовался приход - неизвестно, т.к. никаких документов нет, вероятно, они сгорели при пожаре ц-ви в 1812 г. Сколько лет простояла сгоревшая ц-вь - тоже неизвестно; только известно, что была она во имя Николая Чудотворца.
На месте сгоревшей ц-ви в 1813 г. прихожане построили одноименную часовню; в 1826 г. к ней пристроен алтарь, и часовня была обращена в ц-вь и освящена 3 дек. того же года. От пожара 1812 г. уцелела колокольня, которая стоит и по сей день (на 1896 г. - С. Головченко). Церковь, как и колокольня, - деревянные, обшиты тесом и окрашены желтой краской. Ц-вь 1-престольная, во имя Николая Чудотворца, имеет вид «корабля», с одной главой (на «кубе» - С. Головченко). Из утвари есть только все самое необходимое.
Самостоятельным Унежемский приход стал в 1848 г., а до этого времени он был приписан к Кушерецкому. По рассказам старожилов, до образования самостоятельного прихода, на месте причтовых домов стояли постройки, принадлежавшие Соловецкому м-рю. В них жили иноки и занимались солеварением, и принимали пожертвования, которые по большей части состояли из домашних животных. Потом все это доставлялось в Соловецкий м-рь. Около 60-х гг. (19 в.) солеварением занимались и местные крестьяне, но по малодоходности это дело оставили, и устремились на морские промыслы, на Мурманский берег; этот промысел до настоящего времени (1896 г. - С. Головченко) служит им главным пропитанием и занятием.
Летом 1890 г. усердием прихожан вокруг ц-ви и колокольни устроена решетчатая деревянная ограда. Для поддержания ц-ви и причтовых домов в 1888 г. открыто церк.-приходское попечительство.
В полуверсте от ц-ви, на высокой каменной горе «Вараке», находится деревянная часовня во имя Ник. Чудотворца. Эта часовня устроена местным крестьянином Никоном Акиловым, который, по рассказу его сына, во время своей болезни услышал «голос»: «Если построишь часовню, то выздоровеешь». Акилов дал обещание и после этого стал быстро поправляться. Часовня была построена в 1823 г. и до 1890г. была под присмотром строителей, а с 1890 г. она перешла в ведение приходской ц-ви.
Имеется церковноприходская школа, открытая в 1887 г. и до 1894 г. она помещалась в наемных квартирах, а с этого года имеет собственное помещение, построенное на средства попечительства и протоиерея о. Иоанна Ильича Сергиева (Кронштадскаго), от которого поступило 400 р. Дом этот 2–этажный, в верхнем этаже помещается священник, а внизу - школа. Для псаломщика имеется особый старый дом. Для учительницы имеется тоже отдельное помещение, состоящее из комнаты и кухни.
До 1894 г. обучением занимался священник, а с этого года учит детей учительница, дочь священника Анисья Поликина, окончившая епархиальное женское училище, с жалованием 120 р. в год из средств Училищного Совета. Закону Божьему и церковному пению бесплатно обучает священник (с 15 янв. 1895 г. пение взял на себя псаломщик). На содержание школы местные крестьяне выделяют ежегодно 53 р.
Земли во владении причта ок. 2,5 десятин. На пашне вырастает до 3-х пудов зерна, остальное - сенокос. Жалования причт получает: священник - 300р., псаломщик - 100р., доходы за требоисправления - до 120 р. в год. Причтовых капиталов нет, а в ц-ви есть 150 р. На содержание ц-ви еще идет прибыль от продажи свечей (ок. 2,5 пуда в год).
С основания прихода были следующие священники: о. Федор Иванович Васильев - с 1848 по 18 сент. 1849 гг.; о. Афанасий Ефимов - жил 2 недели и умер на своей родине, в д. Тамица; о. Иоанн Иванович Ульяновский - с 1 июня 1850 по 1852 гг.; о. Иоанн Григорьевич Плотников - 1852 г., в этом же году выбыл в соседний Кушерецкий приход; о. Василий Иванович Кононов - в 1852-м г. переведен из Кушерецкаго прихода; о. Карп Дмитриевич Васильев - жил в Унежемском приходе до 1868 г.; о. Григорий Дьячков; о. Никита Попов; о. Михаил Федоров; о. Иаков Макаров - жили в приходе в промежуток времени - с 1868 по 1874 гг.; о. Павел Михайлович Василевский - с 6 дек. 1874 по 15 июля 1876 гг.; о. Самуил Фёдорович Поликин - с 1 окт. 1876 по день смерти 10 окт. 1877 гг.; о. Александр Петрович Поликин - с 1876 по 1887 гг.; о. Флегонт Васильевич Печенгский - с 1887 по 1894 гг. и переведен в Колежемский приход Кемскаго уезда.
Нынешний состав причта: священник, о. Василий Лукич Соколов, 25 л., окончивший 2-х классное приходское училище; на службе с 1888 г., на настоящем месте - с 17янв. 1895 г.; псаломщик, Виталий Федорович Синцов, 30 л., кончивший курс духовного училища, на настоящем месте с 1884 г.» [36; 82].
Интерес также представляют статистические данные, опубликованные на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Унежма», в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [82]. Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о деревне Унежемская, правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 235; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о селе Унежемское, в котором на этот момент насчитывался 61 двор, в которых проживало 443 человека (201 - мужского и 242 - женского пола) [82; 92, с. 45].
В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о селе Унежма. Количество жилых дворов в нем на данный момент составляло 89 единиц. Количество населения: мужского пола - 250, женского пола - 308 (всего 558 человек). Село в это время относилось к Кушерецкой волости Унежемского сельского общества и соответственно к Унежемскому приходу [14, с. 166-167; 82]. А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о селе Унежма В это время в селе насчитывалось 105 дворов, в которых проживало 525 человек обоего пола [82; 93, с. 14].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» имеется упоминание о селе Унежма, в котором по переписи 1920 года насчитывалось 105 дворов, а количество населения: мужского пола - 199, женского пола - 302 (всего 501 человек) [82; 94, с. 93]. В результате укрупнения волостей в 1924 году, село Унежма вошло в состав Поморской волости Онежского уезда [82; 95, с. 26-27].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о селе Унежма в составе Унежемского сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 346; 82].
Упоминание о культовых сооружениях Унежемского прихода содержатся также в работе краеведа Г.Б. Дерягина «Окрестности Онеги», опубликованной на сайте «Sudmed-nsmu.narod.ru» [25]. В разделе «Приходы в морской части Онежского района» он отмечал, что «Унежемский приход находится возле устья реки Унежма. На 1 января 1895 г. там было 80 дворов, 554 жителя. Церковь Николая Чудотворца, неизвестно когда поставленная, сгорела в 1812 году. На ее месте в 1813 году поставили часовню, которую в 1826 году переделали в церковь Николая Чудотворца. В 1823 году на горе «Вараки» крестьянин Никон Акилов построил часовню, чтобы Бог позволил выздороветь его заболевшему сыну. ЦПШ в 1887 году. Занимались солеварением для Соловецкого монастыря, а затем еще и промыслами. Интересующимся историей Унежмы советую зайти на сайт http://www.strana-naoborot.com/index.html (прим. - Г.Б. Дерягин)» (рисунки 2.606-2.609) [25, фото].
Интерес также представляют сведения из статьи краеведа Е. Федосеевой «Унежма», опубликованной на портале «Onegaonline.ru» в 2006 году (рисунок 2.610) [82, фото]. «Описание дороги. Тропа к деревне Унежма начинается от железнодорожной станции Унежма (ветка Беломорск - Обозерская), доехать до которой можно поездом Мурманск-Вологда или местными поездами из Беломорска или Малошуйки. В дороге имеет смысл купить какую-нибудь местную газету, где печатается график приливов и отливов на море - это может пригодиться для дальнейшего пути.

Рисунок 2.606 - Церковь Николая Чудотворца, 1826 г. Унежма. Фото начала ХХ в. [25, фото].

Рисунок 2.607 - Деревня Унежма (http://www.strana-naoborot.com/index.html) [25, карта].

Рисунок 2.608 - Деревня Унежма (http://www.strana-naoborot.com/index.html) [25, карта].

Рисунок 2.609 - Деревня Унежма [25, карта].

Рисунок 2.610 - Архангельская обл., Онежский р-н, Мадошуйский с/с, д. Унежма. Вид на Унежму с вараки Смоленихи (автор съемки неизвестен, 1979 г.) (адрес - http://www.strana-naoborot.com/Unezhma/essay_2001/essay_photos/012pr.jpg) [77, фото; 82, фото].
Поезд Мурманск-Вологда прибывает на станцию Унежма в 13.40 (по расписанию 2006 года), так что если отправиться в деревню сразу, то можно успеть дойти до темноты. Если вы приехали вечерним «подкидышем», то на станции придется ночевать, чтобы выйти в деревню утром. До деревни - 20 километров, но дорога достаточно тяжелая, поэтому весь путь вместе с привалами занимает 9-10 часов.
Лучше всего попросить кого-нибудь из местных показать вам начало тропы (это совсем недалеко от станции). Если все-таки вы решите искать ее сами, вот примерное описание: вы вышли из поезда и стоите лицом к железной дороге. Дорога позади вас уходит в поселок, дорога налево (в сторону Беломорска) тянется вдоль железнодорожной насыпи. Идите по насыпи (в сторону Беломорска) минут 10, тропа начинается с живописной полянки направо, на 139-м километре, как говорят местные, хотя никаких указателей нет.
С того момента, как вы встали на правильную тропу, заблудиться невозможно. Просто идите по ней все прямо и прямо, тропа хорошо видна и в лесу и на болоте. С полянки тропа углубляется в лес, который почти сразу становится сильно заболоченным. Идти здесь трудно - постоянно встречаются корни деревьев с провалами под ними. Иногда тропа раздваивается, но не обращайте на это внимание - она практически сразу сойдется снова, просто разные люди выбирают разные способы обхода топких и неудобных мест.
Где-то через пол часа (время я указываю очень ориентировочно) тропа выходит на болото. Здесь тоже есть деревья, но они становятся редкими, чахлыми и низкорослыми. По этому большому и открытому болоту вам предстоит идти довольно долго - часа два, до зимника.
Тропа выходит на зимник, по нему нужно повернуть налево. Одна треть пути пройдена. Здесь протекает небольшой ручей, который, правда, как и другие ручьи по дороге, практически пересыхает в засушливые годы. В этом месте я бы обязательно рекомендовала повесить на дерево какой-нибудь опознавательный знак, чтобы на пути обратно вы могли его заметить. Дело в том, что на пути обратно тропа эта с зимника практически не видна (!) и пройти мимо - дело совершенно элементарное.
Дальше вы идете по зимнику, никуда не сворачивая, где-то около часа, пройдя на пути еще два небольших ручья. В сухое лето идти легко, лишь два-три раза встречаются заболоченные места. Одно из них, ближе к концу зимника, особенно неприятное. Здесь зимник проходит по болоту, через которое когда-то была проложена гать, частично прогнившая и затонувшая. Место очень топкое и практически непроходимое, так что черную грязь приходится обходить вокруг, прямо по кромке леса. В каком-то месте (кажется именно в этом) зимник раздваивается, но вскоре сойдется снова, так что по какому ответвлению идти - все равно.
Но вот зимник упирается в небольшое открытое болото и здесь заканчивается. Между зимником и болотом - небольшой ручей (это четвертый по счету). Дальше путь ваш лежит наискосок через болото к опушке леса на другой его стороне. Тропинки здесь не видно - болото все «перепахано» вездеходом. Следы вездехода уходят левее, огибая опушку леса и направляясь к устью реки, но вам туда не надо, поэтому не обращайте на них внимания и держите курс на опушку.
Где именно вы выйдете к лесу, не так уж важно - важно найти дорогу, идущую вдоль опушки, и повернуть по ней налево, так чтобы лес был у вас справа, а болото оставалось слева. Некоторое время дорога тянется вдоль самой опушки, идти здесь легко и радостно - слева ярко освещенное солнцем открытое болото, и под ногами не черная жижа, а твердая сухая почва. Теперь смотрите все время направо - важно не пропустить момент, когда с этой наезженной вездеходом дороги ответвится небольшая пешеходная тропа, уходящая в лес - вам туда (дорога идет дальше вдоль опушки). Тропа эта спускается вниз под откос, в мрачную темную еловую чащу. Но идти по этому мрачному лесу, к счастью, недолго - не более чем пол часа. Тропинка выведет вас к реке, которая будет видна в просвете между деревьями.
Здесь находится порог Падун - широкий плоский камень. Раньше реку переходили здесь и дальше шли по правому берегу. Но четыре года назад там случился пожар, и тропа сильно заросла. Теперь ходят по левому берегу, и тропа к Падуну уже не выходит, а поворачивает вдоль реки и тянется вдоль нее. Вторая треть пути пройдена. Минут через 20 вы увидите небольшую лесную избушку (где можно переночевать, если вдруг вы поймете, что не успеваете дойти до деревни до темноты - отсюда до нее еще не менее двух часов). Здесь можно хорошо отдохнуть, провести пол часа или час. Но особенно расслабляться не советую - до темноты (особенно если это август и темнеет сравнительно рано) обязательно нужно выйти на открытое пространство к морю, откуда уже видно деревню.
Тропинка идет к устью реки, лес постепенно кончается и слева открывается большое болото. Вы выходите на открытое пространство и впереди видите море, Камбалий остров и горбатый силуэт Великой вараки вдалеке. Деревня пока еще не видна, но скоро и она появится. Здесь находится землянка, где иногда ночуют рыбаки или сборщики морошки и клюквы. Здесь, прямо напротив землянки, по камням нужно перейти реку. Но сделать это можно только два раза в сутки во время отлива на море - дело в том, что уровень воды в реке в прилив сильно поднимается. Поэтому если вам не повезло и вы подошли к землянке в прилив, то, вероятно, здесь придется ждать до следующего отлива, когда откроются камни (здесь-то и пригодится газета с расписанием приливов и отливов).
Вы перешли реку и идете вдоль берега моря. На горизонте уже видна деревня - цепочка домов и купол церкви между двумя вараками. Здесь начинается высокая болотная трава - триста, как называют ее местные. Под ногами все время хлюпает вода - почва сильно заболочена. Это самый тяжелый участок пути. Заветная цель уже видна, но вы сильно устали, а идти еще далеко - около часа. Идешь, идешь, идешь и, кажется, что деревня удаляется, как мираж. На пути встретится Тухручей с глинистыми скользкими берегами и дном. В отлив перейти его сравнительно легко. На последнем участке пути у деревни хорошо видны вездеходные следы и идти, наконец, становится легче.
P.S. Во избежание вероятного ночлега у землянки из-за невозможности перейти реку в прилив, можно все-таки идти по правому берегу реки, несмотря на его труднопроходимость. Тропа там практически не видна, но заблудиться невозможно - нужно идти вдоль реки до ее устья, а потом повернуть вдоль моря» [82].
Интерес также представляет статья Ю. Огурцова «По следам Г.П. Гунна (путевые заметки Юрия Огурцова)», опубликованная на сайте «Kenozerje.by.ru» и на официальном сайте Ю. Огурцова «Моя Русь» [56; 66]. «Еще один интереснейший район и собрание жемчужин деревянного зодчества Архангельской области - Поонежье! Этот регион изъезжен мною в несколько лет с 2003 по 2005, также с плёночным фотоаппаратом. Наибольший интерес представляют (к сожалению в целом виде уже ни одного не осталось) классические Онежские «тройники», состоящие из летней большой церкви, зимней отапливаемой и колокольни. Церкви были: одна «кубоватая», вторая - шатровая. Как раз Кубоватые церкви (исключая Вирму) были распространены только в Поонежье и имеют различные предположения, относительно подобной архитектуры. В данное время сохранилось лишь несколько церквей в «живом» виде, то есть на месте постройки: Архангело, Бережная Дуброва, Турчасово, Подпорожье, Вирма, Унежма, Поле)» [56; 66].
Сведения о деревне Унежма содержатся также в «Отчете о походе по Прионежью и Поморскому берегу Белого моря (Архангельская область) А. Дементева по маршруту: Оксовский (Наволок) - Ярнема, Городок (Прошково), Турчасово, Пияла, Большой Бор, Поле, Сырья, Подпорожье, г. Онега, Кий-остров, Ворзогоры - Нименьга, Малошуйка (Абрамовская) и Унежма 23 июня - 9 июля 2009 года [24]. В составе группы были: священник С. Чураков, М. Чуракова, Т. Ярмолинская и А. Дементьев.
В дневнике А. Дементьева записано, что 4 июля 2009 года в 20:35 они «сели на дежурный поезд Малошуйка-Маленга. Малошуйка еще более-менее крупная станция, на ней касса есть. А на ст. Нименьга, например, не то что кассы, а даже расписания поездов нет. Железнодорожники рассуждают, по-видимому, примерно так: «зачем эти бумажки, если местные и так знают, когда поезда ходят?
4.07.09. 22:00. Вышел на ст. Унежма один и собрался по рекомендации Елены Федосеевой остановиться на ночь у знакомых. Остальная часть группы решила возвращаться в Москву и поехала дальше в Маленьгу, чтобы там пересесть на электричку Маленьга-Кемь. Но не тут-то было. Оказалось, что эти электрички ходят только по нечетным числам, а на поезде Вологда-Мурманск вообще нельзя уехать, т.к. в Маленьге нет кассы. То есть, приходится ждать на станции ровно сутки. Так и вернулись тем же поездом обратно на станцию Унежма к 23 часам. Ура, мы все вновь вместе! Идем в Унежму вчетвером! Заночевали в палатке на поляне, с которой начинается тропа в Унежму.
В Унежму. 5.07.09. 8:00. Ходил в магазин на станцию. Продавщица вся какая-то измученная, таких только в Москве и увидишь. Почти все население посёлка довольно регулярно пьянствует, слышали про случаи воровства. Вот что значит без корней жить. Население по большей части приехавшее в советское время из разных мест «за северными». Черта: в Малошуйке нас предлагали подвезти 3 км за 100 рублей. Чувствуется уже какое-то стремление к наживе.... А в селе Унежма уже другой народ: здесь люди родом из северных мест.
9:20. Вышли. Болото прошли за 2,5 часа. Через него идёт по сути две тропы: одна с поляны входит в лес перпендикулярно ж/д путям, другая - под углом налево, на СЗ. Лучше идти как раз левее, потому что эта тропа огибает более болотистые места и старается держаться леса. Не пугайтесь, что сначала она при выходе на болото разветвляется; потом соединится, все дороги ведут в Унежму. Обратно мы по ней прошли от зимника до поляны за 2 часа. Обе тропы соединяются у стояночки в лесу с берёзками. Идя по зимнику, на развилке нужно поворачивать налево (см. описание координат точек), а то мы много сил потеряли на этом километре, пойдя прямо.
16:20. Перешли в отлив устье речки Унежмы. Обедали прямо на камнях, благо есть горелка.
19:00. По разрешению остановились в одном из домов. Благодарим хозяев! Попили чаю, поели принесенной местным рыбаком камбалы. Не думал раньше, что морская рыба может быть такой вкусной. Всегда представлял это в виде чего-то безвкусного, а тут - на тебе. Пошли смотреть море и Великую вараку. Словами красоту передать трудно. Никольская церковь очень гармоничная. Из окон - море. Море с трех сторон, тишина, только ветер веет и прибой шумит. 23:30 отбой.
На краю земли. 6.07.09. 11:00. Встали. Зашел Александр, пригласил пойти с ним на рыбалку по отливу. Накопали морских червей, потом пошли к Камбальему острову, к устью Унежмы. Там ловили камбалу, попадались размером с ладонь. Помахалка (удочка) - это палка, веревка и крючок с грузилом. Закинул, дернуло - вытягивай. Такая простая снасть и такие уловы, надо же. Пообедали, потом пошли ловить по приливу на щельях (на берегу моря). Тишина на море, солнце садится. Гагары пролетали. Александр все молчит-молчит, а всякое слово к делу скажет. Вечером пошли в храм, читали канон св. Николаю. До свиданья, Унежма!» (рисунки 2.611-2.616) [24, фото].

Рисунок 2.611 - Деревня Унежма (фото священника С. Чуракова и М. Чураковой, 2009 г.) [24, фото].

Рисунок 2.612 - Деревня Унежма (фото священника С. Чуракова и М. Чураковой, 2009 г.) [24, фото].

Рисунок 2.613 - Деревня Унежма (фото священника С. Чуракова и М. Чураковой, 2009 г.) [24, фото].

Рисунок 2.614 - Деревня Унежма. Никольская церковь (фото священника С. Чуракова и М. Чураковой, 2009 г.) [24, фото].

Рисунок 2.615 - Деревня Унежма (фото священника С. Чуракова и М. Чураковой, 2009 г.) [24, фото].

Рисунок 2.616 - Деревня Унежма (фото священника С. Чуракова и М. Чураковой, 2009 г.) [24, фото].
Необходимо также упомянуть о сведениях, представленных на портале «Onegaonline.ru» в виде набора фотографий общего вида деревни Унежма и ее храмового комплекса [82, фото]. Наиболее ранней культовой постройкой в деревне Унежма считается деревянная церковь во имя Николая Чудотворца, сгоревшая при пожаре в 1812 (по другим источникам - в 1813) году. На месте сгоревшей церкви в 1813 году была возведена одноименная часовня; обращенная в церковь в 1826 году после пристройки алтаря. Церковь во имя Николая Чудотворца - однопрестольная, с одной главой (на «кубе») и имеет вид «корабля». От пожара 1812 года уцелела деревянная шатровая колокольня, а летом 1890 года усердием прихожан вокруг церкви и колокольни была устроена решетчатая деревянная ограда. Кроме того, в полуверсте от церкви, на высокой каменной горе «Вараке», имелась деревянная часовня во имя Николая Чудотворца, построенная в 1823 году крестьянином Никоном Акиловым (рисунки 2.617-2.627) [25; 36; 82]

Рисунок 2.617 - Унежма. Церковь. Фото начала XX в. из книги Г.В. Алферовой «Каргополь и Каргополье» (автор и время съемки неизвестны) [3; 82, фото].

Рисунок 2.618 - Церковь и колокольня в Унежме (фото В.В. Суслова, 1886 г.) [82, фото].

Рисунок 2.619 - Архангельская обл., Онежский р-н, Мадошуйский с/с, с. Унежма. Никольская церковь 1826 г. Западный фасад (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.620 - Архангельская обл., Онежский р-н, Мадошуйский с/с, с. Унежма. Никольская церковь 1826 г. Вид с северо-востока (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.621 - Архангельская обл., Онежский р-н, Мадошуйский с/с, с. Унежма. Никольская церковь 1826 г. Южный фасад (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.622 - Архангельская обл., Онежский р-н, Мадошуйский с/с, с. Унежма. Никольская церковь 1826 г. Восточный фасад (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
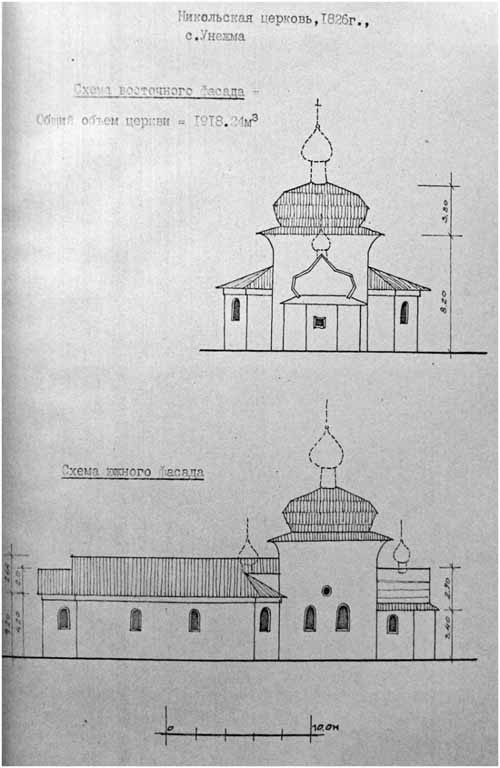
Рисунок 2.623 - Никольская церковь 1826 г. с. Унежма. Схемы восточного и южного фасадов [82, фото].

Рисунок 2.624 - Архангельская обл., Онежский р-н, Мадошуйский с/с, д. Унежма. (автор съемки неизвестен, 1979 г.) [82, фото].
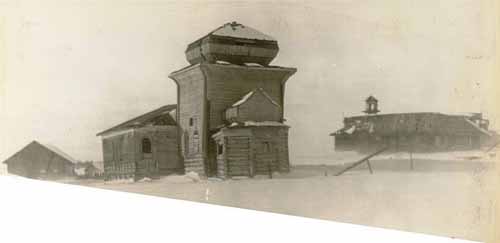
Рисунок 2.625 - Архангельская обл., Онежский р-н, Мадошуйский с/с, с. Унежма. Никольская церковь 1826 г. Вид с юго-востока (автор съемки неизвестен, 1979 г.) [82, фото].

Рисунок 2.626 - Архангельская обл., Онежский р-н, Мадошуйский с/с, д. Унежма. Вид на Великую вараку (автор съемки неизвестен, 1979 г.) (адрес - http://www.strana-naoborot.com/Unezhma/essay_2001/essay_photos/015pr.jpg) [77, фото; 82, фото].

Рисунок 2.627 - Никольская церковь в Унежме. Датой постройки Никольской церкви можно считать 1826 год, хотя в начале 20-го века была полностью перестроена трапезная, в четверике церкви прорублены высокие арочные окна, пристроено новое крыльцо (автор съемки неизвестен, 1979 г.) (адрес - http://www.strana-naoborot.com/Unezhma/essay_2001/essay_photos/016.jpg) [77, фото; 82, фото].
Для более полной характеристики Унежмской групповой система населенных мест особый интерес представляют материалы, опубликованные на портале «Страна наоборот («Strana-naoborot.com»). В разделе «Друге города: По русскому Северу: Унежма» содержится статья под заголовком «И это все о ней …(Унежма в литературе)» краеведа Л.А. Харлина, из которой становится известно, что «В Унежме Г.П. Гунн побывал в середине 1960-х годов, в после-колхозное время, когда жизнь в деревне уже затухала, и в книге «Онега впадает в Белое море» (М, «Мысль», 1968 г.), в главе «Деревушка среди трех скал» сказал: «Нет места краше Унежмы». К этим словам нечего добавить. Я не знаю, довелось ли ему побывать там еще раз, но с уверенностью могу сказать, что память о ней он бережно хранил, как хранил кусочек унежемской скалы-вараки» (рисунок 2.628) [23; 77, фото].

Рисунок 2.628 - Старая изба в Сосновке, в которой коротал вечера с рыбаками Г.П. Гунн. Фото Е.А. и З.А. Басистовых (адрес - http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/vse_o_nei/pictures/isba.jpg) [77, фото].
«Вот фрагменты из этой главы.
«Из Кушереки дорога ведет на Унежму.
- Глушь там, наверное? - спрашиваешь у кушереченцев.
- Какая глушь! Живут они там как на курорте. Море у них под огородами, рыбы полно, покосы хорошие, молоко есть, туда люди отдыхать ездят.
В этих словах зависть кушереченцев к унежемцам (прим. 3 - Здесь неточность. Жители Кушереки исторически называли себя кушере?чена, а Унежмы - унежо?мы): сами-то они считаются поморами, а море не часто видят - пройди-ка к нему километров пять по дороге, разбитой скотом, хуже дорога разве что в Нименьге... А придешь к морю - луг и вода, голый тоскливый берег, зацепиться глазом не за что, хотя бы какой куст у воды рос! Вот и живут кушереченцы у моря, а рыбы свежей не всегда едят. Зато Унежма - там скалы, сосны, рыбы там... да что говорить - курорт, да и только!
Но добраться в Унежму не так просто. Одна избушка стоит в девяти километрах, другая - в восемнадцати, а потом и дороги нет - она выходит прямо в море и обрывается. Здесь надо ждать отлива и затем идти на мыс Сосновый Наволок. Море будет отступать все дальше, и все больше будет обнажаться дно, усеянное большими и малыми камнями. У самого мыса лежат огромные базальтовые плиты, неприступно-твердые, угрюмые, вечные, обросшие водорослями. Отсюда, с мыса, в прогалине между двух сосновых гривок видна Унежма. Всяк, кто ее впервой видит, радуется - до того красивое место. Так и первые пришельцы, наверное, шли берегом, вышли на мыс - и вдруг, как видение, три горы зеленые, округлые, как прорезавшийся из-за горизонта на треть диск солнца, и место до того пригожее, рыбное да птичное, живи не хочу...
Путь туда тоже через залив. Идти по берегу и дальше и труднее: болота, заросли, а главное, придется переходить через три речки. В отлив море уходит далеко и весь залив в шесть километров длиной обсыхает, устья речек куда-то исчезают, и спокойно идешь ребристым твердым дном моря…
Деревушка Унежма - это десятка два домиков, разбросанных среди кочковатого луга между трех скал. От Кушереки до Унежмы больше тридцати километров, и в другую сторону - до Нюхчи - больше тридцати. До железной дороги двадцать, но пути через болота нет. Так и стоит крохотная поморская деревенька где-то на отшибе, в стороне от всех центров, и связывают ее с внешним миром телефонные провода, протянувшиеся по всему побережью. Нет здесь ни почты, ни телеграфа, а связью ведает монтер Веня (прим. 4 - Вениамин Петрович Евтюков), у которого на квартире стоит телефон. Если надо, он телеграмму передаст по телефону или примет. За почтой ездит два раза в неделю почтарь Толя (прим. 5 - Анатолий Николаевич Куколев). Это два парня на всю деревню, да девчат в деревне нет. И ребятишек школьного возраста тоже не увидишь: с осени их отправляют в интернат. Остались здесь жить люди пожилые, а то и совсем старые.
У Кушерецкого колхоза в Унежме животноводческая ферма. Покосы тут большие, выпасы просторные. Летом еще ничего: ко многим приезжают родственники из Мурманска, из Архангельска - братья, сестры, дети, внуки - в город перебрались, а все на родину тянет. А осенью совсем скучно в Унежме. Редко-редко пройдет по улице соседка в гости к соседке. Особенно тоскливо серыми штормовыми днями, когда дождь с ветром рвутся в окна, море бьется о скалы, шумят на скалах сосны и уныло чернеют кресты кладбища перед деревней, обращенные к вечно шумящему, неприветливому морю. Сколько людей жило здесь у сурового серого моря однообразной жизнью, жизнью простого долга!.. Хорошо. Смотришь со скал и видишь по всему горизонту в голубизне рассеянные островки - много их вблизи берега.
- Островов здесь много, - рассказывает дед. - Самый большой - Кондостров. Раньше там жили, теперь все дома свезли в Пурнему. Снабжать их было трудно. А так - чего не жить, место хорошее. Кедры растут, пихта, лиственница, акация, как на Соловках. Там тоже монахи жили, дороги от них остались ровные, как стрела, лиственницей обсажены, на гору идет лестница, в камне вытесана, а на самой горе колодец, вода у нем вкусная. Озер много, рыбы, птицы... Вот куда бы тебе, охотник, податься, - обращается он ко мне…
Смотришь с вершины самой высокой унежемской скалы, забравшись на стоящую там тригонометрическую вышку, и видишь бескрайнюю приветливую гладь. То гуси летят, то утки. То сверкнет, на миг показавшись из воды, шкура морского зверя. Глянешь вправо - на Сосновом Наволоке у избушки дымится костер - там тоже живут рыбаки из Онеги. Отлив. Весь огромный залив, ровный, как поднос, обсох и блестит. И слева тоже обсохло, обмелела река Унежма и открылось по берегам ее сплошное нагромождение камней, а там, дальше, за лесом, в голубой дымке видны новые скалистые шапки, голубая, как мираж, Святая Гора - там Нюхча. Оглянешься назад - внизу, в треугольнике, образованном скалами, стоят живописные избушки среди зеленого луга в этом удивительном по красоте зачарованном месте. И так хорошо здесь, что лучше и придумать нельзя…
И так, осмотревшись вокруг, вполне понимаешь и разделяешь чувства унежемцев, привязанных к своему месту. Их все хотят переселить, предлагают перевезти дома в Кушереку. Здесь с ними много хлопот, большое неудобство для снабжения, нет клуба, кино, даже печеного хлеба не продают - хозяйки сами пекут хлебы в печах. А унежемцы не уезжают. Не упрямство, конечно, их удерживает, а привязанность к этому небольшому клочку земли, который и есть для них родина. Старики говорят: «Вот мы помрем, а молодые как хотят». А молодые отвечают: «Пусть здесь даже деревни не будет, все равно будем ездить сюда - лучше нашей Унежмы ничего нет!»
И я разделяю их мнение, и я готов согласиться: «Нет места краше Унежмы!» Нет ничего лучше ее пустынных берегов, истоптанных гусями, где так вольно дышится. Нет ничего лучше ее речек и речушек, где приходится пробираться вдоль берега медвежьей глухоманью, переходить их вброд по порожкам или по упавшим древесным стволам. Нет ничего лучше ее ляг, тростников и болотин (хотя не охотнику это вряд ли понять). Нет ничего лучше ее крутолобых скал, с которых можно неотрывно часами смотреть на море. Нет ничего лучше, чем бродить вдоль черты отлива, когда рядом шумят и плещутся волны и начавшийся прилив вкрадчиво лижет твои ноги. Нет ничего лучше мыса Соснового Наволока и его избушки, просторной и светлой (прим. 6 - Речь идет не о нынешних маленьких избушках, а о старом доме, который еще не так давно стоял на оконечности мыса (см. фото на предыдущей странице), где приходилось коротать ночи с рыбаками, где о мыс бьется прибой и угрюмо шумят сосны. И конечно, нет ничего красивее моря под Унежмой.
Да! Нет места лучше Унежмы! «Но почему же только Унежмы?» - скажут мне. И я не стану спорить, а пойду по берегу дальше» [23; 77].
На портале «Страна наоборот» («Strana-naoborot.com») имеется также раздел под заголовком «История Унежмы. С древних веков до Октябрьской революции. Унежма послереволюционная» (адрес - http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/un_history2.htm). «В тексте использованы материалы из книг: И.М. Ульянов, «Страна Помория» и «О времени и о себе» [104; 105]; В.В. Суслов, «Путевые заметки о севере России и Норвегии», С-Петербург, 1888 г. [101]; С.В. Максимов «Год на Севере» [43]; «Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии», вып. 3: «Уезды Онежский, Кемский и Кольский». Арх., 1896 [36].
Древние времена. Первоначальное поселение на наволоке Бранница, где сейчас расположена Унежма, появилось, возможно, в очень древние времена. По мнению археологов и историков, расселение древних людей на территории Беломорья относится примерно к X-IX тысячелетиям до нашей эры. Спустя несколько тысячелетий, около 2500 лет до н.э., началось движение в Беломорье племен с юга, из Волго-Окского бассейна, затем появились лопари (саамы), потом финно-угорские племена и, наконец, русские.
Принято считать, что большинство деревень по берегам Белого моря основаны новгородцами, уходившими на Север в поисках неосвоенных земель и вольной жизни, где-то в XII в. В Унежме, однако, бытует поговорка «Унежомский наволок - Москвы уголок», ставящая под сомнение ее новогородское происхождение. Вероятнее все-таки, что основана она была московитами - выходцами из Московского княжества, возможно после падения Великого Новгорода.
Средние века. Так или иначе, после падения Великого Новгорода все беломорские земли перешли во владение московского царя. Первое письменное упоминание об Унежме встречается в акте 1555 г. Затем по писцовой книге 1582-1583 гг. Унежма значится «деревней на Ужнем наволоке, Климентовское да Панфиловское поиденье, а в ней церковь Никола Чудотворец». В 1591 году по велению царя Федора Ивановича волостки Унежма и соседняя Нюхча переходят во владение Соловецкого монастыря «за строительство Сумского острога, крепости в Соловках и другие ратные заслуги» (43 СГКЭ, т.2, № 408а, с 835. Жалованная грамота царя Василия Ивановича Соловецкому монастырю на подтверждение прежних грамот).
Власть монастыря продолжалась до XIII века. Только при Екатерине II крестьяне Унежмы стали снова «государевыми». Несмотря на это, постройки Соловецкого монастыря сохранялись в Унежме до середины XIX в. В них жили иноки и занимались солеварением, а также принимали пожертвования, которые по большей части состояли из домашних животных, затем эти жертвования препровождали в Соловецкую обитель. Позднее, с утверждением в Унежме самостоятельного прихода в 1848 году, на месте келий были построены причтовые дома.
Легенда об Унежме. Появившиеся новгородские первопроходцы облюбовали место для жительства на мысе Бранница, у Великой вараки, которая защищала от холодных северных ветров. Занимались они рыболовством, охотой и солеварением. Но жить у моря было опасно. «Воры» - так называли всех иностранцев поморы - в любое время могли нагрянуть, ограбить, взять в плен, убить. В истории Беломорья известны многие случаи нападения шведов, финнов и других захватчиков на мирные села. Начиная с Х века захватчики систематически терроризировали жителей Беломорья. Сначала они нападали на селения жителей Терского берега, а затем шли разорять онежан и двинян. В конце XV - начале XVI-го веков в «смутное время» нападения «соседей» усилились. «Воры» рыскали по Поморью, проникая далеко вглубь, доходили до Онеги и Холмогор. Не избежала погромов, пожаров и разорений и Унежма.
Жить у моря стало невыносимо, и тогда многие ушли на реку, за десять километров от моря. Там построили дома, завели скот, сенокосы и пашню. К морю ездили и ходили рыбачить и варить соль. Но жизнь на реке многим не нравилась: мало пашни и сенокосов, а море, от которого в основном кормились, было далеко. По мелководной каменистой реке ездить на наволок можно было только в полную воду, пешая дорога шла болотом и грязью.
Многие обитатели деревни стали говорить, что надо идти на наволок, там удобней жить и сообща обороняться от врагов. Но не все соглашались. Появилось две группы: одни хотели жить у моря, другие на реке. Собрался сход. На нем спорили, ругались, но ничего не решили. Тогда сошлись самые старые, самые опытные и договорились положиться на Николая Чудотворца - защитника и покровителя мореходов и рыбаков. Икону Николая Чудотворца положили на ночь у часовни на реке, а сами легли спать. Проснулись - иконы нет. Искали по всему поселку, обошли всю реку, нигде не нашли. Тогда пошли на наволок к морю и обнаружили ее у Великой вараки. Приверженцы жизни на реке стали говорить, что икону унес на наволок кто-нибудь из желающих жить у моря. Решили еще раз проверить. Опять ее положили на то же место у часовни и приставили караул. Стража всю ночь сидела не смыкая глаз, зорко охраняла икону, а когда рассвело и улегся туман, ее на месте не оказалось. Пошли искать по реке, обошли каждый кустик, но не нашли. Опять пошли на наволок к морю и на том же месте, что и в первый раз, у Великой вараки нашли. Всем стало ясно: надо жить у моря, так велит Николай Чудотворец, так угодно богу. И все обитатели речной деревни переселились к морю, где у многих были избушки, построенные на время лова рыбы и выварки соли. Такова легенда об Унежме и, возможно, она отражает действительность.
Основные занятия местных жителей. Земли на побережье Белого моря бедные, большей частью заболоченные, мало пригодные для хлебопашества. На этих землях можно было с большим трудом вырастить хлеб, чтобы прокормить свою семью, но часто этого хлеба не хватало даже до весны. Кормило поморов море, оно и определяло их основные занятия и способы зарабатывания денег.
Жители Поморья, в том числе Унежмы, испокон веков занимались, в основном, морскими промыслами - добычей тюленей и ловлей рыбы на Мурмане (Кольский полуостров). Другим (но менее доходным делом) была добыча соли из морской воды… Из исторических документов известно, что уже в XII веке на Белом море была довольно широко развита добыча соли. В XIV-ХV вв. поморские волости были в числе немногих районов, где добывалась соль. С XVI века соль из поморских посадов неизменно фигурирует под названием «поморка» во многих таможенных грамотах. Потребность Русского государства в соли была так велика, что с приезжающих в двинскую землю торговых людей брали пошлину солью и белками.
Появившиеся монахи Соловецкого монастыря писали: «Мнози жители Поморья имеют обычай соль варити». Тогда, с появлением железа, соль уже не вымораживали, а выпаривали на железных сковородах в специальных варницах. Варница представляла из себя яму, в которой устраивалась печь, с домиком над ней. На печь помещали црены, большие железные сковороды с морской водой. Печь постоянно топили, вода кипела, удаляясь паром, а соль оставалась на сковороде. Вываренную соль снимали со сковород и просушивали, а затем ссыпали в мешки или кули, готовя на продажу. Соль, полученная из морской воды, имела сероватый цвет и горьковатый вкус. На рынках России она получила название «поморка».
Вываркой соли обычно занимались зимой - с декабря по апрель - в наиболее удобное для жителей время. Тогда по всему побережью и на островах дымили варницы. Поскольку выварка производилась при помощи огня, то солевары нуждались в большом количестве дров - «кострищ», заготовку которых складчики распределяли между собой.
Усолье - так называли места, где занимались вываркой соли. Соляной промысел процветал и в Унежме» (рисунок 2.629) [77, фото].
«Унежемское усолье располагало, видимо, многими варницами. Остатки их сохранились на Варничной вараке - две, на Унежме реке - одна, на реке большой Леменце - одна. Вполне возможно, что территория между Средней и Великой вараками была полностью занята варницами: здесь имеются углубления и бугорки, как на Варничной вараке, на местах старых варниц, только значительно меньших размеров - годы и деятельность человека постоянно сглаживали неровности. О наличии варниц на этом участке говорит еще один факт: летом 1980 года, копая яму под картошку, житель Унежмы В.П. Евтюков наткнулся на кирпич-обжиганец, золу и скелет человека. Можно прямо сказать, что это была варница Соловецкого монастыря. В Унежме обжиганный кирпич никогда не вырабатывали, его привозили с Соловков.
Тяжел, опасен и безрадостен был труд солеваров. Работали они сре¬ди огня и дыма в парах соли, постоянно поддерживая огонь в печи, для чего требовалось много дров. Это была самая низкооплачиваемая работа, которую в основном выполняли беднейшие крестьяне, казаки и бобыли, чтобы как-то прокормиться. «Поморку» потребляло население всего севера европейской части России, поступала она и в центральные области. Зимой по Поморскому тракту через Онегу на Каргополь тянулись многочисленные обозы с солью для продажи, а с юга в Поморье везли хлеб, обувь, одежду.
Во второй половине XVI века у «поморки» появился влиятельный конкурент. Соль начали вываривать на Вычегде, в Усольске, нынешнем Сольвычегодске. С развитием солеварения в Камско-Вычегодском крае соль подешевела и выварка ее на Белом море стала менее выгодной, но продолжалась. Еще в XVIII веке во времена правления Екатерины II работали поморские варницы и велась торговля беломорской солью. Добыча соли на Белом море почти совсем прекратилась в XIX столетии, когда началась промышленная разработка соляных залежей на южных озерах России, но не исчезла. Крестьяне продолжали вываривать «поморку» для себя и частично на продажу.

Рисунок 2.629 - Остатки солеварни на Варничной вараке (адрес - http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/Uljanov/un_02.htm) (автор и время съемки неизвестны) [77, фото].
В годы империалистической и гражданской войн доставка соли с юга прекратилась и жители Беломорья опять начали добывать ее из морской воды. На берегу и островах заработали варницы, напоминая о былом величии «поморки». По свидетельству П.М. Базанова в те годы многие унежемы занимались солеварением. Он с братом Иваном Михайловичем ездил в Цельнаволок, чтобы там варить соль. После окончания гражданской войны снабжение южной солью наладилось и выварка «поморки» прекратилась.
Поморский почтовый тракт. В 80-x годах XVI века в связи с постройкой военного укрепления и открытием воеводского управления в Коле, правительство России учредило «ямскую гоньбу» (езда с остановками) из Архангельска до Кольского острога. Был составлен «подорожник» - роспись станций, через которые шло сообщение, с указанием расстояния между ними и краткими пояснениями особенностей передвижения на отдельных участках. Вдоль берега Белого моря был проложен «тракт» (дорога): построены мосты через речки и ручьи, прокопаны канавы для отвода воды, в лесу сделаны просеки и дороги. По тракту шло оживленное сообщение, особенно зимой: возили почту, распоряжения, ездили чиновники. Крестьяне на юг везли рыбу и соль, с юга хлеб и другие продукты питания. По этому тракту шли и ехали «вешняки» - поморы, уходящие «на Мурман» на летний тюлений и рыбный промыслы. Позднее на дорожных станциях были построены казенные избы для отдыха проезжающих, стали содержать лошадей, казаков для обслуживания почтовой связи. Крестьяне за особую плату содержали дорожные станции и обеспечивали перевозку почты, казенных грузов и лиц, ездивших по делам службы. Правом бесплатного проезда пользовались чиновники и лица, исполнявшие служебные поручения. Им выдавались «свидетельства на право получения почтовых лошадей.
Содержание тракта было поручено местным властям. Крестьяне Беломорья должны были отрабатывать дорожную повинность: чинить мосты, ставить вехи, расчищать просеки, ежегодно обозначать зимники (санные дороги), по которым проходил тракт. Первое время, когда не было дорожных станций (специальных «казенных домов»), крестьяне отбывали извозчичью повинность, то есть «ямскую гоньбу» по очереди, подворно.
Потом, в более близкое к нам время, в каждом селе была создана почтовая станция с постоялым двором. Тракт проходил и через Унежму, как бы образуя центральную улицу, огибая навалок. Заходил он в деревню с востока, с Кушерецкой стороны, а выходил на запад, к Нюхче. В 1920-х годах почтовую станцию и постоялый двор содержал Варзугин Григорий Павлович. Его двухэтажный дом, обитый досками и окрашенный краской, выделялся среди других. Во дворе, огороженном забором, был флигель, конюшня, амбар, колодец и другие хозяйственные постройки. В верхнем этаже жили хозяева, в нижнем - комнаты для проезжающих. К дому примыкал сарай. На верхнем этаже - сеновал, кладовки, на нижнем - хлевы, двор. Десять добротных коней всегда были наготове для перевозки почты. Де¬сять казаков и казачих обслуживали связь и хозяев дома. Почту по тракту везли без задержек, на перекладных. Привезенную из Кушереки отправляли на лошадях Варзугина до Нюхчи, а поступающую из Нюхчи - в Кушереку.
Содержатель станции был грамотный, начитанный, деловой человек, в прошлом судовладелец, капитан. Ему приходилось вращаться среди многочисленных проезжающих: государственных чиновников, географов, путешественников, писателей, поэтов, следовавших через Унежму почти беспрестанно. Это был холеный хозяйчик, одетый по-городскому. Он выписывал газеты и журналы, в его доме была библиотека, посуда и мебель заграничного производства. После революции Варзугина раскулачили, имущество продали на торгах, дом его остался открытым.
Культовые сооружения в Унежме. Церковь и колокольня.
Деревянная церковь в Унежме существовала уже в конце XVI в., судя по данным писцовой книги 1582-1583 гг. Эта (или другая, более поздняя) церковь сгорела при пожаре 1812 г., деревянная колокольня (постройки предположительно конца XVII в.) уцелела. С этого момента начинается история существующей церкви, которая неоднократно достраивалась и расширялась. В 1813 году на месте сгоревшей церкви была построена часовня. В 1826 году к ней пристроен алтарь и часовня обращена в церковь, которая была освящена 3 декабря того же 1826 года. Это был одноглавый храм с кубоватым завершением, с небольшой трапезной, перекрытой двухскатной кровлей, и крыльцом.
В 1848 году Унежемский приход стал самостоятельным (до этого времени им заведовали священники Кушерецкого прихода). Позднее церковь и колокольня были обшиты тесом и окрашены желтой краской (данные 1896 г.). В 1888 г. для поддержания церкви и причтовых домов было открыто церковно-приходское попечительство. В 1890 г. усердием крестьян вокруг церкви устроена деревянная ограда.
В конце 1890-х годов во владении причта было около 2,5 десятин земли, из них под хлебопашеством только на 3 пуда, остальное сенокос. Для содержания причта с 1895 г. положено жалованье от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Доходов за требоисправления в год получалось около 120 руб. Причтовых капиталов нет, церковь содержалась на прибыль от свечей, которых в год продавалось до 2,5 пуд.
Время шло, деревня росла, население увеличивалось, церковь стала мала, и в 1904 году, по свидетельству жителя Унежмы П.М. Базанова, ее расширили. Трапезная была полностью перестроена, на ней были поставлены три главки, прорублены большие арочные окна. Такие же окна появились и в главном срубе церкви. Изменилась и колокольня: старое шатровое покрытие было заменено новым, наподобии купола со шпилем. Деревянной постройке явно старались придать образ каменного сооружения. Церковь была переименована и названа в в честь трех Святителей и Георгия Победоносца. Но новые названия не прижились и церковь так и осталась Никольской.
После революции церковь и колокольня в Унежме разделили печальную участь многих других подобных построек по всей России. Колокольня была свалена по решению сельсовета, церковь перестроена под клуб. В предвоенные годы «избачем» (директор и единственный работник клуба в одном лице) был И.М. Ульянов (впоследствии автор книг «Страна Помория» и «О времени и о себе»). В начале Второй мировой войны клуб был закрыт и больше уже не возрождался. В церкви был устроен склад, затем за неимением строительных материалов ее стали потихоньку разбирать, сняли полы и потолки для ремонта скотных дворов. Позднее в церкви был устроен коровник, но с развалом колхоза он был ликвидирован и церковь стояла пустая. Сейчас она доживает свои последние годы - сруб покосился, крыша сгнила и провалилась, и, очевидно, недалек тот день, когда церковь рухнет сама собой.
Подробный рассказ об истории унежемской церкви с современными и историческими фотографиями можно увидеть здесь (адрес - http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/Uljanov/un_history.htm).
Часовня. Кроме церкви, на самой вершине Великой вараки была также деревянная часовня, также во имя Николая Чудотворца. Весной, по случаю отхода «на вешнюю» и летний промысел, и осенью, с приходом рыбаков, в ней совершалась служба. Часовня эта была поставлена местным крестьянином Никоном Акиловым в 1823 году по обещанию. Во время болезни он услышал голос: «Коли построишь часовню - выздоровеешь». Акилов дал обещание, после чего стал быстро поправляться. До 1980-го года часовней заведовали ее строители, потом она перешла в ведение приходской церкви. Часовня не сохранилась. На ее месте в советские годы была построена геодезическая вышка, которая в свою очередь сгорела при пожаре на вараке в 1990-х годах (см. ниже).
Поклонный крест. На Средней вараке, на Ивановой горушке, стоял большой крест под крышей на четырех столбиках с оградой. Поставил его в честь Воздвиженья Варзугин Иван Кириллович - дань святым за хороший промысел и удачное возвращение домой. Крест не сохранился.
Унежма в конце XIX - начале XX вв. В конце XIX в. Унежма представляла собой оживленное село среднего размера, с почтовой станцией, несколькими лавками (магазинами), церковью, колокольней, начальной церковно-приходской школой. По данным 1886 года в ней было 80 дворов, а в них 259 жителей мужского полу и 295 женского.
Церковно-приходская школа. В 1887 г. для обучения детей в Унежемском приходе была открыта церковно-приходская школа. До 1894 г. она помещалась в наемных квартирах, а с 1896 года получила собственное помещение, устроенное на средства попечительства и о. протоиерея Иоанна Ильича Сергиева, от которого поступило 400 руб. Дом был двухэтажный, в верхнем этаже его помещался священник, а внизу школа. Псаломщик жил в отдельном старом доме. До 1894 г. обучением занимался священник, а с 1894 г. детей учила учительница, священническая дочь Анисия Поликина, закончившая курс в епархиальном женском училище, с жалованием в 120 руб. из училищного совета. Для учительницы также устроено помещение, состоящее из одной комнаты и кухни. Закону Божиему и церковному пению обучал местный священник безмездно. С 15 января 1896 г. года пение взял на себя псаломщик. На содержание школы местными прихожанами ежегодно ассигновалось 53 рубля.
Известные путешественники в Унежме. С.В. Максимов. В 1856 году Унежму посетил путешественник и исследователь С.В. Максимов во время своего продолжительного путешествия по северу России. О нем он рассказал в книге «Год на Севере» [43]. Вот выдержка из этого замечательного произведения: «Помню, когда, к неописуемому моему счастью, проширкал наш карбас своей матицей-килем для меня в последний раз по коргам и стал на мель, я нетерпеливо бросился вперед по мелководью оставшегося до берега моря вброд. Помню, что с трудом я осилил гранитную крутую вараку, выступившую мне навстречу и до того времени закрывавшую от нас селение. Помню, что, наконец, осилил я щелья, переполз через все другие спопутные, перепрыгнул через все каменья и скалы и, освободившись от этих препон, бежал - бежал в селение. Я не замечал, не хотел замечать, что небо задернулось тучами и сыпало крупным, хотя и редким дождем; я видел только одно - вожделенное селение Унежму - маленькое, с небольшой церковью, которая скорее часовня, чем церковь. Вспоминались мне уже здесь (в Кушереке) таможенные солдаты, бродившие по улицам Унежмы, бабы, ребятишки, мужики, рассказы моего ямщика о том, что здешний народ весь уходит на Мурман, что дома иногда строят они суда и даже лодьи, промышляют мелких сельдей и наваг на продольники; что попадают также сиги, что хлебом пользуются они отчасти из следующего по пути селения Нименьги, вспоминаются при этом кресты, также, по обыкновению поморских берегов расставленные и по улицам покинутой Унежмы. Видится, как живой, один из таких крестов под навесом, утвержденным на двух столбах. Вспоминаются бабы на полях, подсекавшие траву, перевертывая коротенькую косу-горбушу с одной стороны на другую».
В.В. Суслов. Академик архитектуры Владимир Васильевич Суслов (1857-1921) побывал в Унежме в 1886 году, во время путешествия по Швеции, Норвегии и северным губерниям России, совершенного по поручению Императорской Академии Художеств. Целью поездки было изучение русского деревянного зодчества, в то время еще очень мало исследованного.
Результатом путешествия были два замечательных издания - книга «Путевые заметки о севере России и Норвегии» академика архитектуры В.В.Суслова (С-Петербург, типография А.Ф.Маркса, 1888) и альбом «Памятники древнего русского зодчества», издание Императорской Академии художеств. Вып. I. Составил академик В.В.Суслов. СПб., 1895 г. [100; 101].
Вот какой увидел Унежму Суслов: «Из села Кушерецкого до станции Унежма пришлось в последний раз добираться на телегах по отмелям моря. Дорога шла довольно сносная. В Унежме оказалась вполне сохранившеюся небольшая деревянная церковь и очень хорошенькая колоколенка. Оба памятника принадлежат к XVII столетию. (В отношении даты постройки церкви Суслов ошибся (см. выше) - примечание редакции). Исполнив обмеры и фотографии с этих любопытных памятников древне-русского зодчества мы, наконец, были обречены продолжать дальнейшее путешествие морем на карбасах, т.к. сухопутная дорога со ст. Унежмы в летнее время совершенно прекращается. (Здесь имеется в виду почтовая станция в деревне, а не нынешняя железнодорожная станция Унежма. Примечание редакции).
Карбасы представляют собой простую лодку длиною около 9 аршин. К носовой части ея прикрепляется якорь на железной цепи и затем идут две или три поперечные скамейки для гребцов. Далее отведено место для пассажиров, длиною до трех аршин, перекрытое на высоте 1,5 арш. парусиной в виде свода, и, наконец, в кормовой части лодки находится место для рулевого. Когда карбас отправляется в путь, гребцы берут с собой паруса, запасные весла, компас, бочонок пресной воды, самовар и съестные припасы. Экипаж состоит из 4-х или 6-и гребцов, исключительно женщин, и рулевого, всегда мужчины. Карбасы и служащий на них народ так же, как на сухопутных трактах, разделяются на почтовые и земские, причем труд каждой пары женщин оплачивается как за одну лошадь.
Таким образом, на пристани села Унежмы, расположившись с моим попутчиком в новом, хотя и более спокойном, но опасном экипаже, мы пустились в море уже при закате солнца. Сильный попутный ветер крепко схватил паруса карбаса и невольный страх овладел мной. Мы неслись в нескольких верстах от берегов и, разрезая бушующие волны, с каким-то самоотвержением шли вперед. Дружное пение гребцов, их полное спокойствие к окружающим волнам моря постепенно ободряли меня и я скоро забыл о всех опасностях. Сквозь небольшой дождь и туман мы быстро прошли более 30-и верст и, приближаясь к станции, готовы были вступить в устье реки Нюхчи, но начавшийся отлив и опасные пороги этой реки заставили нас идти к деревне пешком более 5-и верст. Целой процессиею мы с багажом пробирались узкою тропою, лежащею в тундрах, и в продолжение только нескольких часов, изнемогая от усталости, едва достигли селения.
Унежма в годы Первой мировой войны. В 1914 году началась империалистическая бойня. Пришла она и в Унежму… Памятником тех тревожных лет была «караулка» - небольшой домик, стоявший у подножия Великой вараки с южной стороны. Годы ее постройки неизвестны. По легенде (см. выше), она была построена еще в средние века, когда жители Унежмы вернулись к морю с реки, где они спасались от набегов иноземных грабителей - «воров». Караулка была якобы поставлена для наблюдения за морем, откуда могли прийти варвары. На самом деле, деревянная постройка вряд ли могла сохраниться так долго. Скорее всего, она была построена в начале XX в. В 1915 году, по словам П.М. Базанова, в ней постоянно находилось до десяти солдат, которые поочередно дежурили на вараке. В одной из комнат этого дома жили ссыльные революционеры. В караулке не хватало мест для всех ссыльных, и поэтому несколько человек жили в домах крестьян» (рисунок 2.630) [77, фото].

Рисунок 2.630 - Дом Ф. Базанова (слева) с наблюдательной вышкой (автор и время съемки неизвестны) (адрес - http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/) [77, фото].
«Послевоенные годы и до нашего времени. После Великой отечественной войны Унежма еще больше опустела. Многие мужчины не вернулись с войны, другие старались уехать в более «перспективные» места, где было больше работы и жить было легче. Оставались только старики, в основном женщины. Деревня стала «неперспективной». В начале 1960-х годов здесь уже не было ни колхоза, ни сельсовета, ни почты. Сохранился только магазин да телефон. На лето из Кушереки пригоняли телят на откорм. Жителей насчитывалось до двадцати человек, домов было десятка два» (рисунок 2.631) [77, фото].

Рисунок 2.631 - Остатки коровника колхоза «Великое дело» (автор и время съемки неизвестны) (адрес - http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/Uljanov/un_21.htm) [77, фото].
Об Унежме 60-х можно прочитать в главе «Деревушка среди трех скал» из книги Г.П. Гунна «Онега впадает в Белое море» (адрес - http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/un2005/un_gunn.htm) [23]. В 1970-х гг. закрылся магазин, а со смертью В.П. Евтюкова в 1990-х годах оборвалась последняя ниточка, связывающая Унежму с внешним миром - не стало телефона. Предприимчивые люди из соседних деревень сняли бронзовые провода, проложенные еще до войны, и сдали на металлолом. А электричества в Унежме так никогда и не было - как-то забыли провести…
В конце 1980-х годов, когда автор этого сайта впервые побывала в Унежме, там было всего 5 постоянных жителей. О моих впечатлениях об Унежме того времени можно прочитать в очерке «На краю моря». Об Унежме 1970-1990-х гг. можно прочитать также в книгах И.М. Ульянова «Страна Помория» (адрес - http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/Uljanov/un_pomoria4.htm) и «О времени и о себе» (адрес - http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/Uljanov/un_o_vremeni4.htm) [104; 105].
Летом, правда, Унежма оживает. Приезжают отпускники в свои бывшие дома, приходят из соседних сел мужики на рыбалку и охоту, иногда даже можно услышать детские голоса. Забредают иногда случайные туристы. Летом в Унежме обычно проживает 10-15 человек.
Пожар на Великой вараке. В середине 1990-х годов (точно год, к сожалению, не помню) на Великой вараке случился пожар, очевидцем которого была автор этого сайта. Мы с моей подругой С. Шолпо гостили тогда у постоянного жителя Унежмы Валентина Симоненко. Было сухое и жаркое лето. Помню, однажды ночью, когда еще было темно, нас разбудил стук - кто-то кулаками барабанил во входную дверь. Спросонья мы услышали тревожные голоса, потом Валентин постучал в нашу комнату. «Вставайте, пожар!».
Мы вскочили, поддавшись общей панике, в темноте (искать и зажигать свечку было некогда) оделись в то, что попалось под руки - юбки и босоножки, схватили ведра и побежали за Валентином на вараку. Горело на самой вершине. Пламя было не сильное, ветра не было, но огонь распространялся. Все трудоспособное население деревни - человек 8 - бегало с ведрами от подножия к вершине, черпая воду из моря и выливая туда, где огонь разгорался ярче. Работа не из легких, учитывая немалую высоту вараки, да и обувь была не из самых удобных. В темноте острые сучья цеплялись за наши юбки, обдирали руки, лицо... Потом поняли, что сопротивление бесполезно - слишком мало народу и слишком широко распространилось пламя...
Варака горела долго, где-то около недели. Огонь потихоньку тлел, то разгораясь, то почти пропадая. Горел, в основном, мох, и сосны одна за другой начинали обугливаться с корня к вершине. Мы успели съездить в Малошуйку по делам и вернуться, а варака все еще горела. Огонь подходил уже к самому подножию, откуда до первых домов оставалось всего метров сто. Сто метров открытого пространства без деревьев, кочковатого луга, заросшего сухой высокой травой. Жители деревни, опасаясь за свои дома, начали копать траншею по перешейку между правым и левым берегом, пытаясь отделить ею вараку на мысу от деревни и не допустить огонь до домов. Тут на счастье унежемов пошли, наконец, дожди...
Причина пожара так и осталась неизвестной. Винили приезжих мальчишек, которые якобы накануне вечером жгли костер на вараке, но они не признались» (рисунок 2.632) [77, фото].

Рисунок 2.632 - Великая варака после пожара (автор и время съемки неизвестны) (адрес - http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/Gallery2001/Gall-1/Gall1-007.htm) [77, фото].
«В первый год после пожара варака выглядела как всегда - густо поросшая сосновым лесом. Но это только издалека. Вблизи было видно, что все деревья опалены снизу - даже если крона не сгорела, то ствол и корни обуглены. Приехав на следующее лето, еще издали, подходя к деревне, мы увидели печальную картину - варака, которая всегда была зеленой, теперь была коричневой. Подойдя ближе, мы поняли причину - все деревья были повалены, сгоревшие корни не могли больше питать пышную крону, и деревья упали при первых же сильных порывах осенних ветров... Погиб прекрасный черничник, в котором летом «паслась» вся деревня. В 2001 году, когда я последний раз была в Унежме, Великая варака все еще оставалась в том же виде. Теперь ее скорее можно назвать Лысой горой, где, может быть, по ночам собираются ведьмы со всей округи... Чтобы природа могла залечить свои раны, потребуются, наверное, долгие годы.
Унежма сейчас (2005 г.).
К настоящему времени постоянных жителей в деревне осталось совсем мало. Зимой 2002 года умер Валентин Симоненко. С его смертью в деревне оставалось всего два жителя - Иван Евтюков и Ольга Григорьевна Куколева. Летом, конечно, по-прежнему приезжают отпускники, но зимой... Как живут эти два совсем уже старых человека (Ольга Григорьевна - 1914 года рождения) одни, в заснеженной деревне, когда со всем остальным миром нет вообще никакой связи... Нам, городским жителям, это практически невозможно представить. Но как-то живут, и до сих пор не хотят покидать родную деревню. Дай Бог им здоровья и долгих лет жизни - потому что со смертью последнего из них умрет и Унежма...» (адрес - http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/un_history2.htm) [77].
На портале «Страна наоборот» («Strana-naoborot.com») в разделе «По русскому Северу» (адрес - http://www.strana_naoborot.com/3ru/3ru.htm) представлен также «Отчет о поездке в Унежму, Каргополье и Кенозерский национальный парк в июле-августе 2006 года» (рисунок 2.633) [77, фото]. «Краткая версия. В конце июля - начале августа 2006 года я и двое моих друзей совершили поход по маршруту: Унежма - Каргополье - Кенозерский нац. парк.
В Унежме я побывала после пятилетнего перерыва и провела там восемь дней. Постоянных жителей в деревне больше нет, но мы попали на сезон сбора морошки, поэтому там было довольно много народу - человек 20 не считая детей, в основном пришедшие со станции. Деревня в плачевном состоянии - пустые дома разбираются на дрова и разрушаются, церковь сильно покосилась и вот-вот упадет, на всю деревню остался один колодец и одна баня. Но у Унежмы есть шанс на возрождение: вскоре там, может быть, снова появятся постоянные жители - семья из Мурманска, которая хочет переехать туда насовсем. Некоторые дома до сих пор находятся под присмотром - хозяева приезжают туда на лето и живут с весны до поздней осени.

Рисунок 2.633 - Унежма (адрес - http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/un2006/photo2.htm) (автор съемки неизвестен, 2006 г.) [77, фото].
В деревне мы начали собирать коллекцию предметов старинного быта - из вещей, погибающих на чердаках заброшенных домов. Может быть, это станет основой будущего музея крестьянского быта в Унежме, если она когда-нибудь возродится к жизни, во что очень хочется верить» (адрес - http://www.strana_naoborot.com/3ru/3ru.htm) [77].
Далее на этом же портале в разделе «На краю моря» опубликован очерк, подготовленный студентами архитектурного факультета ЛИСИ, проходивших в 1987 году обмерную практику в малоисследованных деревнях Архангельской области. Очерк был написан в 2002 году, а небольшие изменения внесены в 2006-м (адрес - http://www.strana-naoborot.com/Unezhma/essay_2001/un_essay.htm) [77].
«Если вы устали от городской суеты, если хотите отдохнуть от утомительной гонки современной цивилизации, нет лучшего уголка на земле, чем Унежма. Эта забытая Богом и людьми крошечная деревушка на самом краю студеного северного моря, затерянная среди бескрайних лесов и болот, позволит вам на время забыть о шуме больших городов, об уличной толпе, о том, что есть на свете телевизоры, машины, магазины, телефоны и даже электричество. Маленький островок прошлого, связанный с окружающим миром лишь едва заметной тропой через болото, перенесет вас в удивительный мир тишины и покоя, который невозможно забыть.
Расположена деревня в одном из красивейших мест на южном (Поморском) берегу Белого моря, на мысу, с трех сторон окруженном водой и тремя сопками, называемыми здесь вараками - Великой, Средней и Варничной. Характерные силуэты варак видны издалека, с моря и с суши, словно путеводные вехи для проплывающих мимо кораблей и уставших путников. Так же хорошо видна и деревянная церковь между ними, четвертая высотная доминанта в плоском северном ландшафте, напоминающая о близости жилья, где в теплой печи пылает огонь и горячий хлеб на столе ждет возвращения хозяев.
Деревня Унежма впервые упоминается в писцовых книгах в 15-м веке. В 19-м веке она стала одним из зажиточных селений на Белом море, где процветал промысел рыбой, солью и салом морского зверя. Избы в Унежме были крепкие, богатые, на высоком подклете, где держали скот, с большими хозяйственными дворами. Многие из них можно увидеть и сейчас, правда, слегка покосившиеся, полуразрушенные. Люди покидали деревню в 1950-х годах, когда происходило укрупнение колхозов и многие поселения на севере опустели. Кто-то перевозил свои дома на новое место жительства, кто-то просто уезжал, оставляя избы со всей хозяйственной утварью. Здесь до сих пор можно найти дореволюционную резную мебель, брошенную прежними хозяевами, медные тульские самовары, разбитый кузнецовский фарфор. Никольская церковь постройки первой четверти 19-го века, после революции бывшая сельским клубом а потом коровником, сейчас пустует и постепенно разрушается. Но некоторые жители не захотели покидать родную деревню и остались, несмотря на то, что в 1970-х годах закрылся последний магазин, в 1980-х перестал работать единственный телефон. Проложенная еще до войны телефонная линия, бережно поддерживаемая одним из жителей, пришла в упадок с его смертью. А электричество сюда так никогда и не провели.
В январе 2006 года Унежма стала необитаемой - умерла ее последняя жительница, Ольга Григорьевна Куколева, 1914 года рождения. Правда, летом деревня оживает - приезжают в родные края провести отпуск дачники, потомки бывших унежомов, да иногда заносит попутным ветром случайных туристов, которые, попав сюда однажды, возвращаются в полюбившееся место снова и снова.
Добраться до Унежмы нелегко, так как дороги, проложенные через леса и болота в прежние времена, заросли и уже трудно разглядеть в чаще еле заметные просеки. Пассажирского судоходства к Унежме не существует и подъехать с моря в хорошую погоду можно разве что случайным попутным катером. Единственная пешеходная тропа к деревне начинается с железнодорожной станции Унежма, где расположен поселок с таким же названием. От станции до деревни - 20 километров. Поезд Мурманск-Вологда прибывает на станцию в полдень, и у вас есть достаточно времени, чтобы до темноты добраться до места. Почему же так долго, спросите вы? А просто потому, что идти приходится не по асфальтированной трассе, а болотистой тропой через лес, таща на себе тяжелые рюкзаки с запасом продуктов. Потом нужно пересечь большое открытое болото, выйти на зимник, в дождливое лето залитый водой по колено, потом с зимника свернуть опять на болото. Дальше - снова в лес, где, перейдя вброд речку и пройдя вдоль нее еще пару километров, вы выходите наконец на берег моря и по мокрому лугу идете к деревне. Это самый трудный участок пути - вы устали, а иди по высокой траве и хлюпающей под ногами воде тяжело. Тропинка здесь совсем теряется, но это не страшно, потому что на горизонте, как маяк, уже виден купол церкви. Зато в конце этого нелегкого пути вы будете вознаграждены за все превратности дороги, так как попадете в сказку.
В первый раз мы избежали трудностей пешего путешествия и приплыли в Унежму морем на судне рыбинспекции «Палтус». Было это в 1987 году. Мы, семеро студентов архитектурного факультета ЛИСИ, отправившихся на обмерную практику в малоисследованные деревни Архангельской области, отплыли из Онеги поздно вечером и, проведя ночь на палубе из-за морской болезни, рано утром прибыли в Унежму. Разом проснувшись и взглянув на берег, мы, не сговариваясь, хором выдохнули «Ах!», и чувство удивления и восхищения больше нас не покидало. На фоне серого облачного неба мы увидели три сопки, возвышающиеся над морем, словно горбатые спины доисторических животных, а между ними - живописную группу покосившихся бревенчатых изб с деревянной церковью посередине. Звенящая тишина, нарушаемая только шорохом сухой травы на ветру да гулким шумом прибоя, сказочный мир щемящей старины, отрешенности и словно застывшего времени, запах моря и ни души! Картина вокруг была настолько нереальна, что казалось - вот только закрой на секунду глаза, и этот чудесный мираж исчезнет... Никогда больше в своей жизни я не видела места, так органично вписанного в окружающий пейзаж, так чутко сохранившего ностальгическую прелесть прошлого (вернее, теперь уже позапрошлого) века, не нарушенную ни современными строениями, ни гудом машин, ни светом реклам и фонарей.
В первый приезд мы провели в Унежме две недели. Занимались обмерами церкви, в перерывах между работой ходили в лес за ягодами и грибами, вечерами пили чай из самовара и пели песни при свете свечи или керосиновой лампы. Типичный городской житель, всю жизнь до этого проводивший лето на даче под Ленинградом, я была поражена обилием ягод и грибов в нехоженых северных лесах. Вот где действительно оправдывает себя поговорка «грибов - хоть косой коси!». Мы сушили белые и подосиновики, нанизывая их на нитки, и они висели в нашей кухне над печкой, шурша как въетнамские занавески…
Сейчас деревня медленно умирает. Если вы посмотрите на карту России, то обязательно найдете на ней маленький кружочек на берегу Белого моря с красивым названием Унежма. И никто не знает, что это уже только мираж, тень прошлого. У жителей окружающих сел были планы возродить Унежму, например, устроить там рыболовную и охотничью базу. Но, чтобы осуществить это, нужно строить дороги, а кто за это возьмется, да и деньги какие нужны. Так и остается Унежма чудесным забытым уголком на самом краю моря. Да может это и к лучшему, ведь пока нет к ней протоптанных путей и не затронула ее вселенская суета, есть куда убежать от повседневности...».
Необходимо отметить, что к тексту приведенного выше очерка была приложена серия фотографий окрестностей деревни Унежмы (рисунки 2.634-2.641) [77, фото].

Рисунок 2.634 - Унежма (адрес - http://www.strana-naoborot.com/Unezhma/essay_2001/essay_photos/023.jpg) [77, фото].

Рисунок 2.635 - Унежма (адрес - http://www.strana-naoborot.com/Unezhma/essay_2001/essay_photos/002a.jpg) [77, фото].

Рисунок 2.636 - Унежма (адрес - http://www.strana-naoborot.com/Unezhma/essay_2001/essay_photos/003.jpg) [77, фото].

Рисунок 2.637 - Унежма (адрес - http://www.strana-naoborot.com/Unezhma/essay_2001/essay_photos/004.jpg) [77, фото].

Рисунок 2.638 - Унежма (адрес - http://www.strana-naoborot.com/Unezhma/essay_2001/essay_photos/022pr.jpg) [77, фото].

Рисунок 2.639 - Унежма (адрес - http://www.strana-naoborot.com/Unezhma/essay_2001/essay_photos/014.jpg) [77, фото].

Рисунок 2.640 - Унежма (адрес - http://www.strana-naoborot.com/Unezhma/essay_2001/essay_photos/008.jpg) [77, фото].

Рисунок 2.641 - Унежма (адрес - http://www.strana-naoborot.com/Unezhma/essay_2001/essay_photos/011.jpg) [77, фото].
На портале «Страна наоборот» («Strana-naoborot.com») в разделе «Унежма» содержится также интересная «Информация для туристов» (адрес - http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/unezhma.htm) [77]. «Дорогие друзья! Если вы решили побывать в Унежме, примите, пожалуйста, к сведению, что:
Деревня эта полностью заброшенная, постоянных жителей там нет, поэтому рассчитывать на ночлег у добрых бабушек и дедушек не приходится. В деревне есть несколько домов, пригодных для жилья, но они имеют хозяев, живущих в городах и приезжающих в деревню на лето. Эти дома либо заполнены до отказа друзьями и родственниками, либо закрыты на замок в отсутствие хозяев. Брошенные дома (куда хозяева больше не приезжают) находятся в очень плохом состоянии, печи в них разрушены, стекла выбиты, поэтому не рассчитывайте на комфортное жилье. В лучшем случае это продуваемый всеми ветрами дом без печки с протекающей крышей и комарами, без мебели и, естественно, без постельного белья, поэтому спальники обязательны. Но очень рекомендую взять с собой палатку!
Магазина в деревне нет, поэтому продукты на весь срок пребывания нужно брать с собой. Так же нужно взять с собой всю необходимую посуду. Электричества в деревне тоже нет, поэтому позаботьтесь о достаточном количестве свечей или фонариков, особенно в августе, когда ночи темные.
Колодец в Унежме есть, расположен у Великой вараки, к нему ведет хорошо протоптанная тропа. Осенью 2009 года его почистили, заменили сруб и сделали новую крышу, так что мыши туда больше не падают и брать с собой питьевую воду в бутылках не обязательно! Дорога в Унежму очень тяжелая, так что не рассчитывайте на легкую прогулку. Очень рекомендую внимательно прочитать описание дороги, а может быть даже распечатать и взять с собой.
Что посмотреть: Унежма замечательна своей удивительной природно-ландшафтно-архитектурной средой, своеобразной и ни на что не похожей. Расположена деревня на наволоке, с трех сторон омываемом морем, среди трех невысоких гранитных скал, по-местному называемых вараками - Великой, Средней и Варничной. Их горбатые силуэты видны далеко с моря и легко узнаваемы. Чуть в стороне, в сторону болот, есть четвертая варака Смолениха. Старинный центр деревни находился у подножия Великой вараки. Под горкой у церкви, в сторону Нюхчи, было Подгорье, у Средней вараки, вдоль бывшего Поморского тракта, располагалась более поздняя часть деревни, которая называлась Заполье.
Памятники архитектуры:
- Деревянная кубоватая церковь во имя св. Николая Чудотворца, 1824-26 годов постройки (подробнее см. Никольская церковь в Унежме). Она находится в плачевном состоянии, поэтому спешите увидеть!
- Рыбный склад на щельях у Великой вараки (постройка доколхозного периода). Хочу обратить на него особое внимание: склад поставлен необычайно удачно и, говоря научным языком, является «градостроительной доминантой» Унежмы, в значительной степени определяя облик как самой деревни, так и окружающего ландшафта. Склад виден издалека с моря и служит хорошим ориентиром. В настоящее время крыша его провалилась, что сильно уменьшило выразительность береговой линии. А попробуйте представьте берег без него...
Памятники истории:
- «Магазея» - небольшая бревенчатая постройка без окон, расположенная с юга-запада у подножия Великой вараки (на противоположной стороне от склада), построенная, предположительно, в начале XX века. Это бывший общественный склад «сухих» продуктов - муки, крупы и т.п. В настоящее время находится в аварийном состоянии, крыша утрачена.
- «Дом со скворечником». Бывший жилой дом Филиппа Базанова (начало XX века). В годы Великой Отечественной войны на его крыше была возведена небольшая башенка - пункт наблюдения за воздухом, где постоянно дежурили девушки-связистки. Позднее наблюдательный пункт был оборудован на церкви. В настоящее время дом этот разбирают на дрова, поэтому жить ему осталось недолго. УВЫ! В 2010 году от дома остался только фундамент...
Красивые виды:
- Вершина вараки Смоленихи, откуда открывается великолепный вид на деревню, окружающие просторы и острова на горизонте. Добраться туда, правда, нелегко. Местность заболоченная и заросшая высокой травой, основную трудность представляет «канава» (остатки Поморского почтового тракта), которую надо перейти, а она довольно глубока.
- Вершина Великой вараки. Вид не такой красивый (деревья мешают), но тоже впечатляет.
- Камбалий остров (ближайший к деревне, с западной стороны). В отлив не торопясь можно дойти пешком до острова, обойти его вокруг и вернуться обратно. Вид не деревню и морские просторы потрясающий.
- Мыс Сосновка (или Сосновый Наволок). Идти туда, также по отливу, лучше с ночевкой - это где-то 7 километров в одну сторону, напрямик через залив. За один отлив можно только успеть добежать туда и обратно, но любоваться видами не останется времени» [77].
Следует также сказать, что на портале «Страна наоборот» («Strana-naoborot.com») в разделе «Унежма» опубликована работа А. Дементьева «Сказание о хождении по Поморскому берегу Белого моря, о поставлении креста на острове Ворвойница и тушении пожара в Унежме» (адрес - http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/unezhma.htm) [77].
«В лето от Рождества Христова 2010-е собрались Сергий Чураков, жена его Марина и Андрей Дементьев на Поморский берег Белого моря. Не хватало неспешности и полноты в прикосновении к этим местам в прошлом походе, и пришли они сюда вновь. Да присоединился ещё один участник, Варвара Дианова. Впрочем, не без предварительного испытания: перед этим сходили они в однодневный поход протяжённостью километров 25, с форсированием речки в брод да по жаре за 30°. Так что за 6 часов хода выпили воды литра по два, да ещё платок на главе Варвары оказался столь тонковат, что дело кончилось небольшим тепловым ударом. Тем не менее, даже такой «курс молодого бойца» не сумел отбить желание у стойких и целеустремлённых новичков, и нас стало четверо.
Засуха, уничтожившая этим летом практически весь урожай в хлебных областях России, значительно облегчила наш путь. Дорога была сухой, комаров столь мало, что за весь поход некоторые из нас ни разу не надели накомарник, а ежедневное купание в море при жаре за 20-30 градусов наводило на мысль, что мы где-то на юге. И лишь отсутствие праздношатающегося люда и разбросанного повсюду мусора напоминало, что это север. Пройдя семь километров, пришли к Подваженью. Сосновый лес, скалистый берег моря, избушки и родники с вкусной водой привлекли сюда местных жителей, на лодках вместе с детьми приплывших на отдых и рыбалку. Но, оставив позади мыс Подваженский, мы в тишине встретили блистающий яркими и нежными красками закат рядом с третьей избой у мыса Кустовой» (рисунки 2.642-2.643) [77, фото].

Рисунок 2.642 - Унежма (адрес - http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/events/pictures/skazanie/s045.ipg) [77, фото].

Рисунок 2.643 - Унежма (адрес - http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/events/pictures/skazanie/s048.ipg) [77, фото].
«Наутро погода оставалась всё такой же благоприятной. Но три месяца назад, пятого мая, у этих берегов произошла трагедия. Пять человек на лодке с мотором шли из Малошуйки в Унежму. Лодка перевернулась, и двое из них, Григорий Николаевич Евтюков и Александр Петрович Артемьев, погибли. Александра мы знали. В прошлом году этот спокойный и молчаливый человек принимал нас в Унежме, учил ловить камбалу и, несмотря на уже двухнедельную задержку прибытия ГТС-ки со станции, отдавал последнюю остававшуюся муку и масло. В память об этих людях мы решили поставить поклонный крест, планируя осуществить замысел на Сосновке, поскольку этот мыс был указан как примерное место гибели. Однако Промыслу было угодно иначе. События выстроились в ином порядке, чем можно было предположить.
«До острова Ворвойница можно дойти по отливу. Это было бы интересно», - подумала, в первый раз рассматривая карту, Марина. «Остров Ворвойница - очень красивое место. Сходите, не пожалеете. Там и лодка погибших в мае лежит», - сказал Гриша из Малошуйки. И было решено сходить на остров, хотя Андрею эта идея казалась рисковой и непродуманной.
Вышли с Подваженья и пошли вдоль берега, пока не достигли песчаного мыса напротив Ворвойницы. Чтобы идти на остров, понадобилось набрать с собой воды. Оставив вещи на мысу, пошли мы искать обозначенную на карте избушку, предполагая найти там и колодец. Но, как стало понятно лишь позднее, Андрей допустил ошибку в ориентировании и спутал два расположенных рядом мыса. Пока избу с водой искали не в той стороне, начался прилив, и мысль сходить на Ворвойницу по-быстрому, туда-обратно в течение одного отлива, не осуществилась. На остров мы должны были попасть не походя…
В ночь, с ближайшим отливом, вышли на остров Ворвойница. С закатом солнца ветер постепенно стихал, нагретый воздух уходил в сторону моря. Поскольку из-за указанной ошибки в ориентировании был взят неправильный курс, через час последний километр к острову шли почти по пояс в воде, изрядно продрогнув. Меж скал поставили палатку, разожгли костерок чтобы вскипятить воды. Солнце уже взошло над морем, когда после краткой молитвы мы наконец могли ненадолго уснуть.
Часов в 8 утра все уже вновь были на ногах. Поднялся ветер, появились волны с барашками. Застрять на острове на неопределённое время без еды и воды мало улыбалось. При правильном направлении движения к берегу в малую воду глубина должна быть примерно по колено, но вчера-то ведь пришлось идти почти по пояс... Нужно было действовать. Израсходовав остаток воды на завтрак, начали делать поклонный крест. Срубили сосну, обтесали, закрепили поперечную перекладину найденным гвоздём и пеньковой верёвкой. На ровной площадке с северной стороны острова сделали небольшую голгофу из собранных камней и укрепили крест, развернув его в сторону Унежмы. Упокой, Господи, Александра и Григория» (рисунок 2.644) [77, фото].

Рисунок 2.644 - Унежма (адрес - http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/events/pictures/skazanie/s0120.ipg) [77, фото].
«Тем временем ветер не стихал и к наступлению полного отлива горизонт начинал затягиваться тучами. Но выбор был небольшой, и в связке мы двинулись к берегу. Вошли в воду по колено - и хлынул дождь, разрываемый вспышками молний над холмами прямо перед нами. Мелькает мысль: не придётся ли кому-то приходить сюда ставить второй крест уже на братской могиле четверых? Оставалось только молиться и идти вперёд. Что мы и сделали, на этот раз не лишившись заступления.
Изба у мыса Палатного вновь приютила и обсушила нас… На следующий день двинулись дальше к Сосновке. Дошли до Летручья, и вот тут-то, оценив расстояние между избой и ручьём, Андрей сообразил, у какого же мыса мы стояли. И почему до острова пришлось почти по пояс в воде идти, тоже стало понятно…
К вечеру дошли до мыса Сосновый Наволок, фактически представляющего собой покрытый сосновым лесом полуостров со скалистым берегом. Встали у избушки с видом на унежемские вараки. Здесь, бросив очередной взгляд в сторону Унежмы, вдруг заметили дым, поднимавшийся над вараками. Что-то было не так. Дыма было слишком много для простого костра. Был вечер субботы, и мы стали служить всенощную. А уже после заката увидели зарево над Унежмой, и сомнений больше не осталось: пожар. До глубокой ночи ходили по мысу и вглядывались в огоньки над силуэтами горок на той стороне залива. Кто в Унежме, почему на Сосновке не оказалось группы нашего знакомого Александра, который должен был оказаться здесь раньше нас? Цела ли деревня и безопасно ли вообще идти дальше? Пока эти вопросы оставались без ответа» (рисунок 2.645) [77, фото].

Рисунок 2.645 - Унежма (адрес - http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/events/pictures/skazanie/s158.ipg) [77, фото].
«На следующий день, в воскресенье, с утра отслужили часы и изобразительны. Было неясно, что происходит в Унежме, и мы приняли решение остаться пока на Сосновке на днёвку. Наблюдая за складывающимися обстоятельствами, можно было изумляться. Становилось понятно, что поклонный крест, поставленный позавчера на Ворвойнице, больше не мог быть поставлен нигде. Здесь, на Сосновом Наволоке, где мы изначально задумывали ставить его, уже и так стоял крест. В Унежме, как оказалось, горит пожар, а значит и вовсе не до установки креста. И при таком раскладе еще три дня назад все сложилось именно так, что крест был поставлен именно на острове Ворвойница. Сходи мы на Ворвойницу днем или вообще пропусти ее, вышли бы на Сосновку в пятницу и возможно пошли бы без дневки в Унежму. Там бы зависли с тушением пожара дня на три, и никакого креста, конечно, не поставили бы. Можно ли не удивляться, что все произошло именно так, а не иначе?
Между тем настал понедельник и мы тронулись дальше. По отливу перешли залив, обогнули Варничную и Среднюю вараку - и вот она, Унежма. Ставшая уже чем-то родной с прошлого года, но и другая теперь. Слава Богу, ни один дом не сгорел, и пожар затронул лишь Великую вараку, уже горевшую вот так семнадцать лет назад. Дым не спеша поднимался от подножия горы. Все было не так плохо, как можно было предположить, и мы уже спокойнее пошли к деревне. Вспоминая свою радость от красоты увиденной Унежмы, когда в прошлом году после трудных двадцати километров по тропе через болота мы вышли, наконец, к этой деревушке, я пытался представить себе, что же чувствовали те унежомы, в давние времена вот так же подходившие со стороны Сосновки. Уже не болота, а гладкие скалы, поросшие лесом, край синего моря и желтый песок обрамляли встречу с этим дивным местом. И Унежма, новой встречи с которой так ждалось, могла бы и на сей раз встретить приветливо. Но по-другому вышло.
Вошли в деревню, подошли к «магазину» и, едва успев поздороваться со Светланой Шолпо и тургруппой нашего знакомого Александра Кудряшова, почти тут же побросали вещи, схватили вёдра и со всеми побежали на вараку тушить огонь, вновь раздутый поднявшимся ветром. Первое впечатление было таково, что эту стену огня просто не остановить. Вырубить кусты не хватало времени, а пара ведёр воды - много ли что сделать может? Но воду носили и носили, вода кончалась в новом колодце и тогда её начинали черпать из второго старого. Попутно обменивались фразами со знакомыми, одновременно свыкаясь со ставшими уже непривычными суетой и почти что многолюдством. «Давно ли?» «Третий день тушим, уж и счёт времени потеряли». «Как дорога от станции?» «Два дня не спеша шли. Хотели к Сосновке пойти, а тут пожар. Так и сидим, потеряв счет времени. То дежурим, то тушим».
Незаметно прошёл какой-то рубеж, и вот уже, на удивление, открытого огня почти нет, и мы тушим горящие пни и тлеющий мох, для которого, как ни забавно, особенно сгодилась имевшаяся лейка для поливки огорода. Стали меняться, по очереди ходили передохнуть, выпить чаю и искупаться. Так, незаметно, наступил вечер, и мы ушли на склон Средней вараки, где и поставили палатку. После стольких дней на свежем воздухе дом с пышущей жаром печью уже мало привлекал.
На следующий день, то ли наконец раскачавшись, то ли в результате обещания «московского священника» о. Сергия нажаловаться потом «в верхах», Онега прислала самолет АН-2 с тремя пожарниками, на парашютах высадив их прямо в Унежму вместе с необходимым снаряжением. Ну а мы, расспросив дорогу до Нюхчи у Петра Курбангалиева и попрощавшись, ушли в полдень на соседний Камбалий остров, готовясь назавтра приступить к последнему серьёзному переходу. Здесь-то только и смогли мы вздохнуть свободно, единодушно выразив общее ощущение: закончились суета и напряжение; унесли ноги, что называется.
Да, никогда не знаешь, как жизнь сложится и когда закончится отведенное время. Одно можно сказать точно: все в жизни имеет свой смысл и нет ничего случайного. Говорили, что Александр хотел поставить в Унежме поклонный крест, но всё откладывал как-то. Прошло время, и вот уже крест в его память ставить пришлось. За месяц до нашего прихода побывали в Унежме москвичи, добиравшиеся от станции на квадроциклах. Могли бы вообще погибнуть или на вараке ноги переломать, но этого в полном смысле чудом не произошло. Александр Кудряшов со своей группой хотел дойти до Сосновки, а вместо того они четыре дня тушили пожар. Тем временем другой их товарищ Дмитрий (бывший пожарник), собиравшийся приехать в Унежму несколькими днями позже, не смог сесть на поезд пред самым отъездом вдруг потеряв паспорт, и тут же нашёл его после того, как получил известие о пожаре. И кто после всего этого скажет, кому остаться и кому идти, кому дойти и кому погибнуть?
Наутро, перейдя вброд речку Унежму, бросили последний взгляд на деревню. Прикрытая маревом серой дымки, пронизанной лучами поднявшегося солнца, Унежма оставалась будто вне времени» (рисунки 2.646-2.647) [77, фото].

Рисунок 2.646 - Унежма (адрес - http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/events/pictures/skazanie/s207.ipg) [77, фото].

Рисунок 2.647 - Унежма (адрес - http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/events/pictures/skazanie/s208.ipg) [77, фото].
В перспективе деревня Унежмская групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.1.21 Устькожская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
Устькожская групповая система населенных мест находится в южной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 55 км к югу от районного центра - города Онеги, а деревня Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская является административным центром Устькожской сельской администрации.
В состав Устькожской ГСНМ входит деревня Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская (1), расположенная на левом (северо-западном) берегу малого рукава реки Онеги, в месте слияния с ней реки Кожи, и деревня Чижиково - Чижиковская - Чириковская - Чижиково - Чижиково на р. Онеге (2), находящаяся на правом (северо-восточном) берегу реки Онеги, чуть ниже по течению от места слияния ее большого и малого рукавов (рисунки 2.1, 2.2, 2.4, 2.83, 2.124, 2.143, 2.151, 2.214-2.215, 2.648-2.649) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 22; 57, карта; 107, с. 13, рис. 1].
При этом необходимо отметить, что деревня Кудрежская (предположительно - Устькожская) была зафиксирована в свое время на карте под названием «Положение мест между городом Архангельском, Санкт-Петербургом и Вологдой», изданной в 1745 году и опубликованной на портале «Onegaonline.ru» (рисунок 2.148) [82, карта]. На период полевых работ Историко-архитектурной экспедиции Петрозаводского государственного университета 1987 года в деревне Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская насчитывалось 64 жилых дома, а в деревне Чижиково - Чижиковская - Чириковская - Чижиково - Чижиково на р. Онеге - 23 жилых дома.
К фрагменту топографической карты окрестностей деревни Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская 1970-х годов, опубликованной на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Усть-Кожа», приложена фотография с пояснением, подготовленным краеведом С. Головченко (рисунок 2.648) [82, фото]. «Деревня расположена у слияния р.р. Кожи и Малой Онеги, на левом берегу последней. Возраст поселения - более 500 лет. Второе название - Чирковская. Относилась к Кожскому приходу Онежского уезда. В деревне была церковь в ч. Преп. Никодима Кожеозерского, в 1878 г. перестроенная из древней часовни, принадлежавшей ранее Кожеозерскому монастырю. К настоящему времени не сохранилась. На 1918-20 г.г. население составляло 263 человека при 55 дворах, в 1970-х гг. - ок. 500 человек.
Напротив деревни до недавнего времени функционировало лесосплавное предприятие - Усть-Кожская запань, которое обслуживало молевой сплав древесины по Малой Онеге (по Большой Онеге проходил маршрут т\х «Заря»). После прекращения молевого сплава по р. Онеге (теперь лес сплавляют плотами, а «Заря» выше д. Усть-Кожи теперь не ходит) отпала надобность и в Усть-Кожской запани. Люди, кто работал на сплаве, остались без работы. Остро встал вопрос о перемене места жительства. Естественно, резко стало сокращаться население деревни» [82].
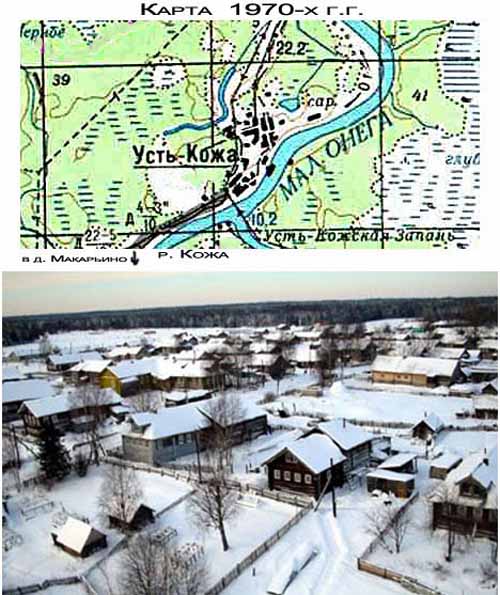
Рисунок 2.648 - А - Деревня Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1970-х гг.); Б - Деревня Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская Онежского района Архангельской области. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
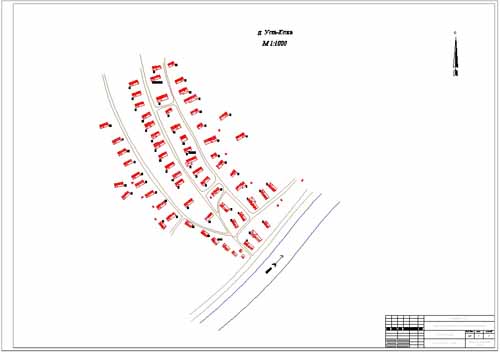
Рисунок 2.649 - Деревня Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
Дополнить приведенную выше характеристику позволяют также статистические данные, опубликованные на портале «Onegaonline» в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [82]. Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о деревне Чирковская, правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 235; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о деревне Чирковская, в которой на этот момент насчитывалось 23 двора, в которых проживало 142 человека (75 - мужского и 67 - женского пола) [82; 92, с. 43].
В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о деревне Чирковская (Усть-кожа). В этот период времени деревня относилось к Мардинской волости Кожского сельского общества и соответственно к Кожскому церковному приходу. Количество жилых дворов на данный момент составляло 40 единиц. Количество населения: мужского пола - 119, женского пола - 107 (всего 226 человек) [14, с. 170-171; 82]. А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о деревне Чирковская (Усть Кожа) и в ней к этому моменту насчитывалось 55 дворов, в которых проживало 263 человека обоего пола [82; 93, с. 16].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» имеется упоминание о деревне Чирковская (Усть-Кожа). В данное время деревня относилась к Кожской волости Кожского сельского общества и по переписи 1920 года в ней насчитывался 51 двор, а количество населения: мужского пола - 110, женского пола - 140 (всего 250 человек) [82; 94, с. 78]. В результате укрупнения волостей в 1924 году деревня Чирковская (Усть-Кожа) вошла в состав Чекуевской волости Онежского уезда [82; 95, с. 28-29].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о деревне Устькожа, входящей в состав Усть-Кожского сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 345; 82].
Дополнить приведенную выше характеристику позволяют фотоиллюстративные материалы, опубликованные на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Усть-Кожа» (рисунки 2.650-2.662) [82, фото].
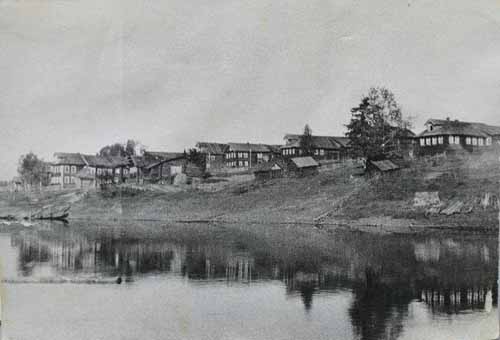
Рисунок 2.650 - Деревня Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская (автор съемки неизвестен, 1970 г.) [82, фото].

Рисунок 2.651 - Деревня Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская. Сплавучасток - людей не видно (фото Н.Сидоровой (Онега), август 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.652 - Деревня Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская. Развилка (фото Н.Сидоровой (Онега), август 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.653 - Деревня Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская. Гармония (фото Н.Сидоровой (Онега), август 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.654 - Деревня Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская. У кого - лодка, а у кого - катер (фото Н.Сидоровой (Онега), август 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.655 - Деревня Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская. «Пожилая» часть села (фото Н.Сидоровой (Онега), август 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.656 - Деревня Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская. Сверху проблем не видно. Вверху - место слияния р. Кожи (справа) и р. Малая Онега (фото И. Иконникова (Онега), 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.657 - Деревня Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская. Сплавучасток - единственное место работы сельчан. Оно под угрозой закрытия (фото И. Иконникова (Онега), 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.658 - Деревня Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская. Ждут «кормильца» (фото И. Иконникова (Онега), 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.659 - Деревня Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская. Одна из улиц (фото И. Иконникова (Онега), 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.660 - Деревня Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская. Дом с балконом и росписью (фото И. Иконникова (Онега), 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.661 - Деревня Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская. Один из домов в старой части деревни (фото И. Иконникова (Онега), 2007 г.) [82, фото].

Рисунок 2.662 - Деревня Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская. Банный городок (автор съемки неизвестен, 2005 г.) [82, фото].
Характеризуя деревню Устькожа - Усть-Кожа - Чирковская, следует, во-первых, упомянуть о сведениях из «Краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской епархии» 1896 года [36], согласно которым становится известно, что «Кожский приход состоит из 8 деревень; 7 из которых расположены по берегам р. Кожи (лев. приток р. Онеги) и одна - за р. Онегою. Два приходских храма находятся в д. Макарьинской, прочие селения отстоят от них: одно - в одной версте, другое - в 2,5 вер-х, за р. Онегою, три - в 8 верстах и одно - в 12 верстах. От г. Архангельска приход удален на 285 верст, от г. Онеги - на 55 верст, от ближайших приходов: Корельскаго - на 14,5 в., Чекуевскаго, в котором находится почтовое отделение - на 18 в. Жителей к 1895 г.: 466 м.п. и 493 ж.п., дворов - 168.
Кожский приход образовался в 1695 г. В настоящее время (1895 г.) в нем два приходских храма и два приписных. Все они деревянные и 1-престольные, в плане - в форме креста. Из приходских храмов один Крестовоздвиженский, устроенный в 1769 г., 5-главый, обшит тесом и окрашен, другой - в честь св. Климента, папы Римскаго, устроенный в 1695 г., шатровый, также обитый тесом и окрашенный. Имеется отдельно стоящая колокольня, устроенная в 1695 г., тоже обитая и окрашенная. Из приписных - один в честь Препод. Никодима Кожеозерскаго, в д. Чирковской (Усть-Кожа) в 2,5 в-х от приходских храмов, устроенная в 1883 г. из часовни, и другой - в ч. св. Апостолов Петра и Павла, в д. Петровской, в 12 в-х от приходских храмов, устроенный в 1854 г.» [36; 82].
В свою очередь к фрагменту топографической карты окрестностей деревни Чижиково - Чижиковская - Чириковская - Чижиково - Чижиково на р. Онеге 1970-х годов, опубликованной на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Чижиково», приложена фотография, выполненная И. Иконниковым (Онега) в 2007 году, с пояснением, подготовленным краеведом С. Головченко [82, фото]. Деревня расположена «на правом берегу р. Онеги, в 25 км выше с. Порог, у места слияния Большой Онеги и Малой Онеги. Возраст поселения - более 500 лет. Являлась одним из центров судостроения в Поонежье. Относилпсь к Кожскому приходу Онежского уезда и Мардинской волости. В деревне была часовня в ч. Св. ВЛКМ Варвары (1740 г.). К настоящему времени не сохранилась. На 1918-1920 гг. население составляло 279 человек при 53 дворах, на 1970-е гг. - ок. 40 человек, на 2008 г. - ок. 10 человек проживает круглогодично» (рисунок 2.663) [82].

Рисунок 2.663 - Деревня Чижиково - Чижиковская - Чириковская - Чижиково - Чижиково на р. Онеге Онежского района Архангельской области (фрагмент топографической карты 1970-х гг.) Общий вид (фото И. Иконникова (Онега), 2007 г.) [82, фото].
Дополнить приведенную выше характеристику позволяют также статистические данные, опубликованные на портале «Onegaonline.ru» в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [82]. Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о деревне Чижиковская, правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 235; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о деревне Чириковская (Чижиковская), в которой на этот момент насчитывалось 26 дворов, в которых проживало 150 человек (67 - мужского и 83 - женского пола) [82; 92, с. 42].
В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о деревне Чижиковская. В этот период времени деревня относилось к Мардинской волости Кожского сельского общества и соответственно к Кожскому церковному приходу. Количество жилых дворов на данный момент составляло 40 единиц. Количество населения: мужского пола - 113, женского пола - 117 (всего 230 человек) [14, с. 170-171; 82]. А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о деревне Чижиковская (Чижиково) и в ней насчитывалось 53 двора, в которых проживало 279 человек обоего пола [82; 93, с. 16].
Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» имеется упоминание о деревне Чижиковская. В данное время деревня относилась к Кожской волости Кожского сельского общества и по переписи 1920 года в ней насчитывалось 57 дворов, а количество населения: мужского пола - 95, женского пола - 144 (всего 239 человек) [82; 94, с. 78]. В результате укрупнения волостей в 1924 году деревня Чижиковская вошла в состав Кожского сельского общества Чекуевской волости Онежского уезда [82; 95, с. 28-29].
Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о деревне Чижиково, входящей в состав Усть-Кожского сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 345; 82].
Интерес также представляют фотоиллюстративные материалы, опубликованные на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Чижиково» [82]. При этом известно, что одна фотография выполнена А. Ларионовым (Онега) и одна фотография снята И. Иконниковым (Онега) в 2007 году (рисунки 2.664-2.665) [82, фото].

Рисунок 2.664 - Деревня Чижиково - Чижиковская - Чириковская - Чижиково - Чижиково на р. Онеге. Часть жилой застройки (фото А. Ларионова (Онега), время съемки неизвестно) [82, фото].

Рисунок 2.665 - Деревня Чижиково - Чижиковская - Чириковская - Чижиково - Чижиково на р. Онеге. Вид на деревню с борта вертолета (фото И. Иконикова (Онега), 2007 г.) [82, фото].
Характеризуя деревню Чижиково - Чижиковская - Чириковская - Чижиково - Чижиково на р. Онеге, следует упомянуть о работе краеведа Г.Б. Дерягина «Окрестности Онеги», опубликованной на портале «Sudmed-nsmu.narod.ru» [25]. В своей работе ее автор писал, что «следующее (за селом Корельское - П.М.) село Чижиково тоже ничем не примечательно. Погибающее село, живут здесь одни старики. Возле Чижиково река разветвляется на два рукава, огибающих 20-километровый остров. Один рукав называется «Большая Онега», по которому мы будем следовать, а второй рукав носит название «Малая Онега». В него впадает река Кожа, в устье которой стоит древнее село Усть-Кожа. Из этого села вдоль берегов реки Кожи (наиболее крупного притока Онеги) к истокам Кожи, в Кожозерский монастырь идет так называемая Монастырская дорога длиной 60 км» [25].
В перспективе Устькожская групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.1.22 Чекуевская ГСНМ, Чекуевская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.
Чекуевская групповая система населенных мест находится в южной части Южного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 74 км к югу от районного центра - города Онеги и связана с ним двумя гужевыми проселочными дорогами - гужевой транзитной проселочной дорогой Ярнема - Савинский - Вонгуда - Онега, идущей вдоль правого (восточного) берега реки Онеги, и гужевой транзитной проселочной дорогой Каргополь - Онега, идущей вдоль левого (западного) берега реки Онеги от поселка Североонежск к поселку Улитино, далее через деревни Посад, Чекуево, Усть-Кожа, Павловская и Рудная Слобода (рисунки 2.1, 2.2, 2.666) [4; 5, с. 93; 6; 7; 8; 18, с. 134, 200; 29, с. 56, 33, с. 135-136; 39, с. 116-118; 48, с. 68, рис. 1; 50, с. 54; 55, с. 22; 63, рис. 1.69; 82, карты; 107, с. 106-112, 114-117, рис. 67-75].
Чекуевская ГСНМ находится на расстоянии 2 км к северо-западу от деревни Анциферовский Бор - административного центра Чекуевской сельской администрации и включает в себя четыре населенных пункта. Композиционно-планировочным ядром Чекуевской ГСНМ является село Чекуево - Мординское - Мординская (1), расположенное на левом (западном) берегу реки Онеги у места разделения ее на два рукава. К северо-западу от нее на левом (южном) берегу левого рукава реки Онеги расположена деревня Калетинская - Калитинская - Калетинское (2), а к югу вверх по течению реки Онеги - деревня Пянтина - Пянтинская - Пянтино (3), прямо напротив которой на правом (восточном) берегу реки Онеги находится деревня Наволок - Козьминская - Козминская (4), образовавшаяся в результате срастания деревень Старый Наволок и Новый Наволок (рисунок 2.667).
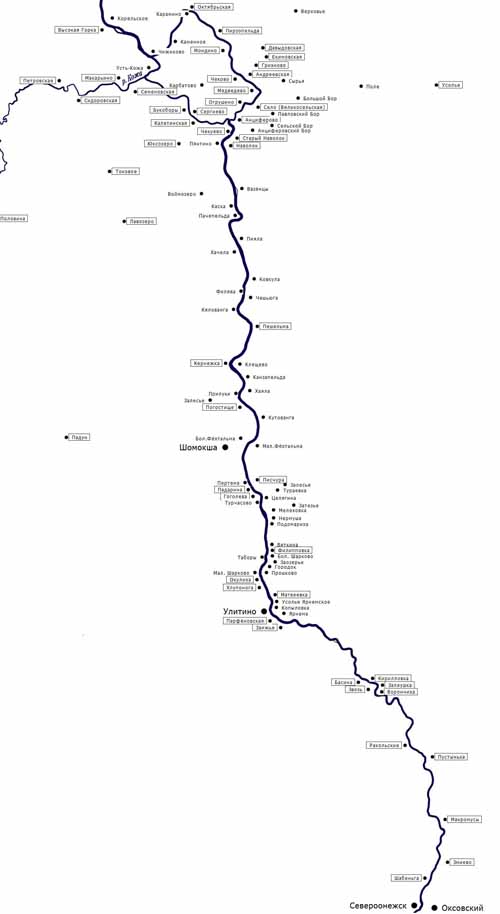
Рисунок 2.666 - Фрагмент карты бассейна реки Онеги на портале «Onegaonline» [82, карта].
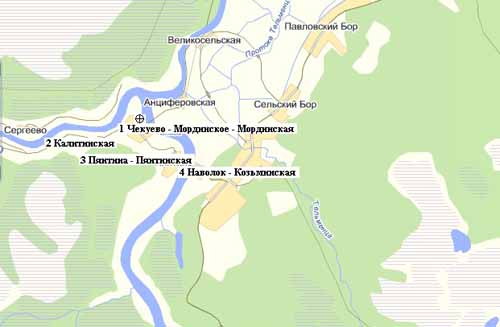
Рисунок 2.667 - Чекуевская групповая система населенных мест Онежского района Архангельской области.
Архитектурно-типологическое описание планировки и застройки Чекуевской ГСНМ, содержащееся в формуле «К1/1(2), ПК1/1, Т1/2(1), ПТ4:[ПТ2+ПТ3]), В4:[В2/1(2)+В3/1(2)], ПВ3/1(1)(01.1), Р1», приведено в приложении А и в таблице Б.1.
Следует также упомянуть и о том, что на портале «Оnegaonline.ru» приведен фрагмент карты «Положение мест между городом Архангельском, Санкт-Петербургом и Вологдой», изданной в 1745 году, на котором имеется упоминание о поселении «Чекуевском», а также два фрагмента топографической карты 1970-х годов, на которых изображены окрестности села Чекуево (рисунки 2.148, 2.668-2.669) [82, карты].
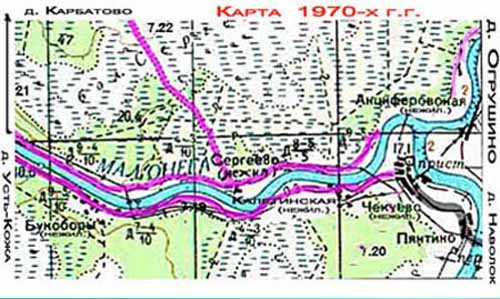
Рисунок 2.668 - Село Чекуево Онежского района Архангельской области (фрагмент карты 1970-х годов) [82, карты].

Рисунок 2.669 - Деревня Наволок Онежского района Архангельской области (фрагмент карты 1970-х годов) [82, карты].
Дополнить приведенное выше архитектурно-типологическое описание села Чекуево - Мординское - Мардинское - Мординская позволяют данные, содержащиеся в «Кратком историческом описании приходов и церквей Архангельской епархии» на 1896 год [36]. Из Клировой ведомости за 1894 год известно, что Чекуевский «приход состоит из 15-ти деревень, из которых только одна, Мардинская, находится вблизи трёх приходских храмов, на левом б. р. Онеги, в 12 верстах от Н.-Мудьюжскаго прихода, в 68 в-х от г. Онега, в 300 в-х от г. Архангельска. Из остальных 14-ти деревень пять расположены на том же берегу, на расстоянии от приходских храмов от 1 до 14 верст: Пянтинская, Козминская и Калитинская - в 1 версте, Букоборская - в 5 , Юксоозерская - в 10 верстах. Девять деревень - на правом б-гу, в расстоянии также от 1-ой до 10-ти верст: Анциферовская - в 1 в., Великосельская и Сергиевская - в 2-х, Огрушинская - в 3-х, Павловская - в 4-х, Медведевская - в 5, Чековская - в 8, Корбатовская и Боровская (Б. Бор) - в 10-ти. Жителей в них к 1896 г. состояло :1153 м.п. и 1364 ж.п., дворов - 375.
В описываемом приходе, существующем более 500 лет, в настоящее время (1896 г.) три приход. храма, два приписных и 8 часовен.
Из приходских древнейшим является 1-престольный Успенский, устроенный в 1675г. вместо прежнего, к этому времени уже обветшавшего. Далее следует холодный Преображенский, устр. в 1687 г., с 3-мя престолами: главным, в ч. Преображения Г-ня, 2-мя придельными в трапезной: в ч. Тихвинской Иконы Б.М. и Преполовения Пятидесятницы. И, наконец, Сретенский, теплый, с приделом в ч. Николая Чудотворца, устроенный в 1893 г. вместо прежнего, обветшавшаго.
Все три названных храма деревянные на каменных фундаментах и такою же колокольней; стенами и крышей прочны. Всеми богослужебными пренадлежностями достаточны. Средствами к их содержанию служат: арендная плата за 18 десятин 1110 саженей земли (ок. 200 р. ежегодно), кружечно-кошельк. сбор (в 1895 г.- 38 р.65 к.), прибыль от продажи свечей (132 р.90 к., продано 6 пуд. 10 ф.) и проценты с билета в 100 р.
Две приписных деревянных ц-ви находятся в д. Боровской (Б. Бор), в 10 верстах за р. Онегой. Один из них - холодный, 1-престольный, в ч. Св. пророка Ильи, устроенный в 1855 г. на казенные средства, другой - теплый, 1-престольный, в честь ВЛКМ-ка Георгия Победоносца, устроенный в 1882 г. (перестроенный из древней часовни - С. Головченко) на средства прихожан. Оба храма стоят на каменном фундаменте, стенами и крышею прочны; над папертью Георгиевскаго устроена колокольня. Ризницей и утварью скудны, как не располагающие какими-либо особенными источниками содержания, кроме кружечно-кошельк. сбора и свечной прибыли, поступающих в пользу приходских храмов.
Из 8-ми часовен одна в ч. Священномучеников Модеста и Власия, устр. в 1716 г в Пянтинском Бору; другая, - в ч. Животворящаго Креста Г-ня, устр. в 1870 г. в д. Огрушинской; третья, - в ч. Св. 12-ти Апостолов на Великосельском Бору; четвертая, - в ч. Покрова Б. М. в Чековской деревне; пятая, - во имя Алексия, Человека Божия, в д. Букоборской; шестая, - Иоанно-Предтеченская, в д. Корбатовской; седьмая, - Зосимо-Савватиевская, в д. Медведевской; восьмая, - в ч. Святителя Филиппа, в Павловском Бору.
Для обучения детей имеется сельское уч-ще. Причт (священник, диакон и псаломщик) владеет 33-мя десятинами земли, дающей до 100 р. дохода в год, получает жалования: священник - 140 р., псаломщик – 50 р. в год, за требоисправления - до 350 р. в год. Для членов причта в 1878 г. на средства прихожан устроен один 2-х-этажный дом.
Ныне священником состоит о. Максим Григорьевич Верюжский, 56 л., кончивший курс обуч. в семинарии по 2-му разряду, в сане свящ-ка описываемого пр-да с 6 авг. 1863 г.. Диакон, о. Александр Ник-ч Пономарев,38 л., кончивший курс обуч. в Усть-Сысольском дух. уч-ще, на службе (Вологодская епархия) с 10 янв. 1884 г., в сане диакона (Арх. епархия) с 21 сент. 1888 г., на занимаемом месте с 14 марта 1894 г. Псаломщик, Илья Филип. Васильев, 44 л., уволен из среднего отделения дух. уч-ща, на службе с 1866 г., в настоящем приходе с 1893 г.» [36].
Дополнительные сведения о Чекуевской ГСНМ содержатся в книге историка и краеведа Г.П. Гунна «Каргоролье - Онега» [20; 21]. «А Онега течет дальше в своих спокойных плесах мимо древних обжитых берегов. Ниже Вазенц будет большое старое село Чекуево. Некогда стояли здесь три деревянные церкви с колокольней, две из них - XVII века. Обе кубоватые: Успенская 1675 года и Преображенская 1687-го. Церкви эти, как наиболее древние, возможно, служили прототипом для других сооружений на Онеге, так, например, очевидна общность форм Преображенской церкви в Чекуево с одноименной церковью в Турчасове. Лет десять назад (в начале 1960-х годов) церковь эта еще стояла в Чекуеве у самого берега реки. Вид ее был страшен: стоял лишь высокий четверик, кровля же обрушилась внутрь здания, в разбитое окно были видны провисшие балки и доски потолка, иконостас с осыпавшимися иконами (Здание еще можно было спасти: стоило лишь подвести временное покрытие, а затем приступить к реставрации. Этого не было сделано...). Десять лет спустя на чекуевском берегу было ровное место...» (рисунки 2.670-2.671) [20, с. 118-119, рис.; 21, с. 135-136, рис.].

Рисунок 2.670 - Село Чекуево. Общий вид погоста с запада. Старая фотография [21, c. 135].

Рисунок 2.671 - Село Чекуево. Преображенская церковь. Старая фотография [21, c. 135].
Следует отметить и капитальный труд искусствоведа И.Э. Грабаря «О русской архитектуре» [18]. В разделе «Кубоватые храмы» автор писал, что «удобство применения к кубу пятиглавия способствовало дальнейшему развитию этого приема. Уже пятиглавие, примостившееся по углам, является переходом к многоглавию - конечной мечте благочестивых строителей. Пятиглавый куб при крестообразной форме плана дает уже такую оживленную группу девяти куполов, какую мы имеем в замечательной Преображенской церкви в Чекуево Онежского уезда (ныне - Онежского района Архангельской обл.), построенной в 1687 году (примечание - Суслов В.В. Церковь в селе Чекуево - «Художественные сокровища России», 1901, № 4, стр. 54)» (рисунок 2.672) [18, с. 200].

Рисунок 2.672 - Преображенская церковь в Чекуеве Архангельск. губ., Онежск. уезда. - 1687 г. (Фот. В.В. Суслова) [18, с. 200].
Сведения о Чекуевской групповой системе населенных мест можно найти в монографической работе искусствоведа Т.М. Кольцовой «Иконы Северного Поонежья» [33, с. 310-316], а так же в книге архитекторов И.А. Бартенева и В.Н. Федорова «Архитектурные памятники Русского Севера» [11]. В разделе под заголовком «Дальше к Белому морю» авторы последней упомянутой книги писали, что «… чем ближе к Белому морю, тем все чаще встречаются кубоватые церкви с каноническим пятиглавием на главном объеме и почти совершенно исчезают церкви шатровые. Так, в селе Чекуево, там где Онега разветвляется на два рукава, вместо шатровых церквей, характерных для онежских погостов, были поставлены две кубоватые церкви (1675 и 1687 гг.). Из них сохранилась только одна - Преображенская церковь, причем кубоватое покрытие ее утрачено. Это характерное для XVII в. сооружение, необычайно красивое по силуэту, требует реставрации» [11, с. 134-135].
«Далее, при слиянии рек Онеги, Малой Онеги и Кожа, стоит кубоватая Климентовская церковь, построенная в 1695 г. В самом устье Онеги, недалеко от впадения ее в Белое море, в селе Подпорожье, были возведены две кубоватые церкви - Владимирская и Троицкая. Необычна по сочетанию объемов Троицкая, сооруженная в 1725-1727 гг. Она состоит из трех четвериков. Два из них, к которым примыкает трапезная, имеют покрытие в виде одноглавых кубов, третий, более высокий, завершен пятиглавой кубоватой кровлей. Над главным алтарным прирубом возвышается большая бочка с резным гребнем на коньке и маленькой главкой. Все главы у основания украшены плоскими кокошниками. Кубоватое покрытие не было вызвано к жизни решением каких-либо конструктивных задач, - оно выполняло только декоративную роль, усиливая впечатление нарядности и великолепия построек.
Наличие большого количества кубоватых церквей в низовьях реки Онеги и ее притоков, а также вдоль южного берега Белого моря не случайно. Оно объясняется близостью таких больших монастырей, как Соловецкий и Крестный на Кий-острове. В этих монастырях и землях, им принадлежащих, раньше всего начали проводиться в жизнь принципы новой церковной политики и те требования, которые предъявлял патриарх Никон к архитектуре церковных сооружений: «Церковь строить по правилам святых апостол и святых отец, чтобы была о пяти верхах, а не шатром». Естественно, что поблизости мест, часто посещаемых официальными церковными лицами, в том числе и самим Никоном, шатровые здания «в чистом виде» оставаться не могли. Зодчие изощрялись в попытках обойти запрет. Чтобы создать видимость пятиглавия, центральный шатер окружался четырьмя прирубами, завершенными главками. Так было в Вознесенской церкви в селе Пияла. Но наибольшее распространение, не вызывая большого протеста со стороны церковных властей, имели кубоватые покрытия. Они хотя и уступали шатру по своим живописным качествам, по силуэту, но были ближе к старому традиционному русскому зодчеству, чем любая другая форма кровли» [11, с. 134-135].
Сведения о сооружениях Чекуевского погоста также содержатся в книге архитектора Ю.С. Ушакова «Ансамбль в народном зодчестве Русского Севера: Пространственная организация, композиционные приемы, восприятие» [107, с. с. 40-41, табл. 2, с. 106-112, 114-117, рис. 67-75]. В разделе под заголовком «Приемы архитектурно-пространственной организации селений и их систематизация» Ю.С. Ушаков приводит классификационную таблицу традиционных поселений, в числе которых упомянуто село Чекуево Онежского района Архангельской области, отнесенное им к центричным с круговым восприятием, приречным, при большой реке населенным пунктам типа «I, Б, 1, б» (рисунок 2.10) [107, с. 40-41, табл. 2].
Как писал Ю.С. Ушаков в своей книге, «и еще один известный, но полностью исчезнувший ансамбль давно привлекал внимание на землях русского Севера. Село Чекуево в нижнем течении реки Онеги в 70 км от ее устья встало как раз на том месте, где Онега разделялась на два рукава - Малую и Большую (рис. 67) [107, с. 114, рис. 67]. Это удобное и приметное место заселено было, видимо, еще в XVI в. Вслед за Турчасовым здесь, на развилке древнего торгового пути Руси постепенно разросся крупный куст селений, состоявший к концу XIX в. из 15 деревень с 375 дворами и населением 2517 человек» (рисунок 2.673-2.677) [36, с. 63].

Рисунок 2.673 - Село Чекуево, Онежский район Архангельской области. Схема местонахождения [107, с. 114, рис. 67].

Рисунок 2.674 - Село Чекуево. Храмовый ансамбль. Вид с востока. Успенская церковь, 1675 г., колокольня, 1740 г. и Преображенская церковь, 16S9 г. Фото В. Суслова 1886 г. (ЛОИА АН СССР) [107, с. 115, рис. 68].
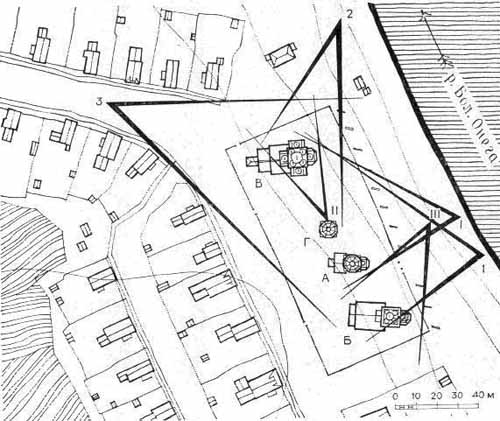
Рисунок 2.675 - Село Чекуево. Храмовый ансамбль Реконструкция. План с показом точек съемки. А - Успенская церковь, 1675 г.; Б - Сретенская церковь, 1677 г.; В - Преображенская церковь, 1689 г.; Г - колокольня. 1740 г. Точки съемки: I-III - В. Суслов, 1886 г; 1-3 -В. Плотников, 1907 г. [107, с. 115, рис. 69].

Рисунок 2.676 - Чекуево. Фото В. Плотникова. 1907 г. (ГНИМА) [107, с. 115, рис. 70].

Рисунок 2.677 - Село Чекуево. Сретенская церковь, 1677 г. Фото В. Суслова 1886 г. (ГПБ им. М. В. Салтыкова-Щедрина) [107, с. 116, рис. 71; 76, фото].
«Чекуево - яркий пример селения на большой реке с центрической композицией при полукруговом восприятии. Из каких сооружений состоял храмовый комплекс погоста первоначально, мы не знаем, но в дозорной книге по г. Каргополю 1648 г. значится «Волость Чекуева, конец острова * (* - Здесь - южная оконечность острова между двумя рукавами Онеги), а в ней на погосте ц. Преображения Спасова, да другая Успения Пречистой Богородицы, строение приходских людей» [99, с. 54]. В «Епархиальных клировых ведомостях» за 1872 год уже названы три деревянные церкви: церковь Преображения, построенная в 1687 г., во имя Успения (теплая) - 1675 г. и во имя Сретения - 1677 г., а также колокольня - 1740 г. Даты построек трех церквей говорят о том, что первоначальный храмовый комплекс, возможно, сгорел и почти одновременно был срублен заново, причем две церкви получили кубоватое завершение, характерное для Онежской архитектурной школы XVII в.» (рисунок 2.678-2.681) [107, с. 116, рис. 72].
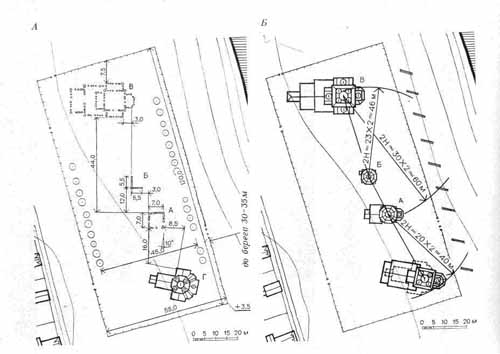
Рисунок 2.678 - Село Чекуево. Храмовый ансамбль (а - обмерный крон фундаментов, 1978 г.; б - реконструкция плана А-фундаменты церкви Успения, 1675 г.; Б - остатки нижнего венца колокольни. 1740 т.; В - фундаменты Преображенской церкви; Г - новое здание Сретенской церкви, 1893 г.; Д - старое здание Сретенской церкви, 1677 г. Реконструкция) [107, с. 116, рис. 72].

Рисунок 2.679 - Село Чекуево. Преображенская церковь. План. Обмер архитекторов Терентьевой, Шестеркиной и Бочаровой, 1946 г. (ГНИМА). [107, с. 117, рис. 73].

Рисунок 2.680 - Село Чекуево. Храмовый ансамбль. Реконструкция. Фасад - сечение с севера [107, с. 117, рис. 74].

Рисунок 2.681 - Село Чекуево. Храмовый ансамбль Реконструкция. Вид с улицы села (с северо-запада) [107, с. 117, рис. 75; 76, фото].
В 80-х годах XIX в. все четыре постройки были обшиты, а шатер колокольни заменен на купол со шпилем. В таком состоянии и увидел ансамбль В.В. Суслов, побывавший здесь в ту же поездку 1886 г. Он сделал, как полагали, два снимка: на одном - верхи церкви Преображения, снятые с колокольни [18, с. 408], на втором - Успенский и Преображенский храмы с колокольней между ними, снятые с востока от реки» (рис. 68 и 69, I, II) [29, с. 121; 107, с. 114-115, рис. 68 и 69, I, II].
«В 1907 г. на Онеге побывал художник В.А. Плотников. В Чекуево он сделал серию снимков, по одному из которых, опубликованному в ряде изданий, чекуевский ансамбль и получил наибольшую известность» [107, с. 115, рис. 69.3 и 70]. На этом снимке, на месте древней Сретенской церкви 1677 г. уже стоит новая, построенная в 1893 г., не в народных традициях [36, с. 63]. Следовательно, В.В. Суслов снимал древнюю церковь Сретения, и его снимок необходимо было найти. Известно, что комплект фотографий, снятых во время поездки 1886 г., В.В. Суслов принес в дар Петербугской публичной библиотеке в следующем, 1887 г. Среди них, действительно, обнаружилась неатрибутированная фотография неизвестной кубоватой церкви. Ограда церкви точно соответствовала ограде Чекуевского погоста» [107, с. 115-116, рис. 69.III и 71].
«Всякие сомнения отпали после знакомства с небольшой публикацией В. Суслова в журнале «Художественные сокровища России» [99, с. 54], в которой описывается церковь Преображения, более всего привлекавшая внимание исследователя. В примечаниях же к этой заметке дано описание древней Сретенской церкви * (* - В описании дан один размер - трапезная Сретенской церкви представляла собой квадрат, со сторонами, равными 8 саженям). Оно точно совпадает с с фотографией 1886 г., которую теперь можно было точно атрибутировать.
Все встало на свои места. Сретенскую церковь В. Суслов снял отдельно, так как весь ансамбль, стоявший близко от берега, не входил в объектив. И так, при реконструкции ансамбля можно было опираться на фотографии В. Суслова и В. Плотникова, сделанные с запада, востока и севера и запечатлевшие два периода его существования.
Натурное изучение территории ансамбля (1978 г.), оказавшейся, к счастью, незастроенной дало положительные результаты * (* - Древние сооружения не сохранились: колокольня и Успенская церковь разобраны в 1946-1947 гг., остатки церкви Преображения - в 1960-х годах). Были найдены валуны, на которых стоял четверик Успенской церкви [107, с. 116, рис.72, А], по ним легко устанавливались плановые величины. Размеры колокольни определялись по двум оставшимся бревнам нижнего венца [107, с. 116, рис.72, Б]. Положение и размеры Преображенской церкви хорошо просматривались по валунам фундамента [107, с. 116, рис.72, В]. Натурный обмер следов сооружений позволил точно установить взаиморасположение построек, «привязав» их к друг другу, к остаткам ограды, к новой Сретенской церкви [107, с. 116, рис.72, Г] и к берегу Онеги. Фотография В. Суслова помогла уточнить место Сретенской церкви по соотношению ее с оградой погоста [107, с. 116, рис.72, Д]. В дополнение к фотографиям и натурным обмерам в архиве ГНИМА был найден обмер плана Преображенской церкви, выполненный в 1946 г. архитекторами Терентьевой, Шестеркиной и Бочаровой в составе экспедиции МРА АА СССР [107, с. 116, рис.73].
Таким образом, точность плана Чекуевского ансамбля была достаточно высока. Сложнее было с вертикальными размерами построек - они не были обмерены. Сопоставление метода пропорционирования, применявшегося в народном зодчестве исходя из известных плановых размеров [39; 50] и сравнительного анализа шести фотографий позволило восстановить относительные высоты построек с допустимой точностью [107, с. 116, рис.74]. Масштабные чертежи дали возможность представить восприятие ансамбля с основных направлений и в том числе - с главной улицы села [107, с. 116, рис.75]. Впервые представший в полном составе Чекуевский ансамбль - один из красивейших в деревянном зодчестве русского Севера - интересен для нас еще и тем, что это единственный из известных нам храмовых комплексов, включающих три крытых кубом сооружения, характерных для древоделов бассейна реки Онеги, Карельского и Поморского берегов Белого моря» [107, с. 106-112, 114-117, рис.67-75].
В своей работе архитектор Ю.С. Ушаков также отмечал, что «интересный пример развитой диагональной композиции из трех церквей и колокольни, сложившейся почти одновременно (как выяснилось при реконструкции), представляет собой храмовый комплекс в селе Чекуево (Онежский район Архангельской области) (см. рис. 72 и 74)» [107, с. 130].
«Несомненно, что многие из художественных достоинств народной архитектуры основывались на врожденной интуиции зодчих-художников. Без выработанного за длительное время тонкого понимания законов природы народное зодчество не достигло бы таких высот. Привнесение законов природной гармонии в рукотворную часть архитектурно-природных ансамблей - основа принципа подобия, на котором построены многие композиции ансамблей. Он соблюдался и в самих архитектурных компонентах. Именно на этом принципе построена художественная выразительность ансамблей в Заостровье, Кеми и Космозере - повтор шатровых завершений на основных сооружениях и приделах (см. рис. 102, 4, 103, 2 и 106), в Юроме - повтор шатров на крещатых бочках (рис. 46 и 55), в Ракулах - повтор декоративных шатриков на всех трех сооружениях (рис. 86), в Чекуево - троекратный повтор кубоватых завершений (рис. 74, 75), в Чёлмохте - повтор бочек под шатрами и на апсидах [29, I, с. 395], и, наконец, в Кижском ансамбле - повтор многоглавия (рис. 102, 6)» [107, с. 143].
Наконец, следует упомянуть и о работе краеведа Г.Б. Дерягина «Окрестности Онеги» опубликованной на сайте «Sudmed-nsmu.narod.ru» [25]. «Немного дальше вверх по реке на левом берегу Онеги, - писал Г.Б. Дерягин, - при начале разветвления ее на два рукава (Большая и Малая Онега), стоит крупное село Чекуево. Ранее оно славилось своей зажиточностью и тремя кубоватыми церквями середины XVII века. Это были самые древние кубоватые церкви на Онеге, древнее их только шатровые. Потеряв свои храмы, село потеряло и свое лицо, став захолустной, ничем не примечательной деревней с полунищими жителями.
СПРАВКА: на 1 января 1895 года Чекуевский приход состоял из 15 деревень. Дворов было 375, жителей - 2517 человека. Три храма стояли на левом берегу реки Онеги в д. Мардинская (Чекуево): Сретенская церковь, 1893 г. (вместо древней 1677 г.); Успенская церковь, 1675 г.; колокольня; Преображенская церковь, 1687 г. Этот известный, но полностью исчезнувший ансамбль давно привлекал внимание на землях русского севера. Село Чекуево в нижнем течении реки Онеги в 70 км от ее устья встало как раз в том месте, где Онега разделяется на два рукава - Малую и Большую. Это удобное и приметное место на развилке древнего торгового пути заселено, видимо, еще в XVI в., вслед за Турчасовским погостом.
Два храма середины 19 века находились в д. Боровской. В Пятнинском Бору стояла церковь Св. мучеников Модеста и Власия, 1776 года постройки. В д. Огрушинской часовня срублена в 1870 г. в честь Животворящего Креста Господня. В Павловском Бору стояла церковь Святителя Филиппа, в д. Медьведьевской Зосимо-Савватьевская часовня. В Великосельском Бору (ныне Большом Бору) была церковь 12 апостолов» [25].
Необходимо отметить, что к приведенному выше описанию Г.Б. Дерягина было приложено три архивных фотографии. В их числе: фотография архитектора В.В. Суслова с изображение трех храмов «на левом берегу реки Онеги в д. Мардинская (Чекуево)», выполненная в 1886 году; фотография художника В.А. Плотникова, выполненная в 1907 году, на которой изображены Сретенская церковь 1893 года, Успенская церковь 1675 года, колокольня и Преображенская церковь 1687 года, а также фотография неизвестного автора с изображением Сретенской церкви 1893 года, выполненная в начале XX века (рисунки 2.682-2.684) [25, фото].

Рисунок 2.682 - Три храма на левом берегу реки Онеги в д. Мардинская (Чекуево). Фото В.В. Суслова 1886 года [25, фото].

Рисунок 2.683 - Слева направо - Сретенская церковь,1893 г.; Успенская церковь,1675 г.; колокольня; Преображенская церковь, 1687 г. Фото В.А Плотникова, 1907 г. [25, фото].

Рисунок 2.684 - Сретенская церковь,1893 г. Фото начала XX в. [25, фото].
Необходимо отметить и тот факт, что сведения о Сретенской церкви, построенной в 1893 году (по другим источникам - в начале XX века и с воссозданием в 1979 году), о Преображенской церкви (около 1700 г, 1861 г.) и о Покровской часовне, возведенной в конце XIX века и воссозданной в 1986 году имеются на портале «Zakon-region.ru/arhangelskaya-oblast», на котором опубликован текст Постановления администрации Архангельской области от 13.08.1998 № 207 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры Архангельской области» [86, № 655 и № 656], а также на порталах «Kulturnoe-nasledie.ru» и «Ru.wikimedia.org» [81; 84].
Также необходимо упомянуть о сведениях, представленных на портале «Оnegaonline.ru» и подготовленных краеведом С. Головченко [82]. «На фото начала 20 века (предположительно 1907 года) мы видим уникальный храмовый ансамбль в с. Чекуево (Мардинское), бывшем центре Чекуевского прихода и обширной Мардинской волости Онежского уезда: это девятиглавый Преображенский храм (1687 г.), колокольня (1740 г.), одноглавая Успенская церковь (1675 г.) и «новая» Сретенская церковь (1893 г., в советское время использовалась под клуб) (рисунок 2.685). Храм Сретения строили местные плотники: Коротких Егор Павлович (1850 - 25.03.1911), его двоюродный брат Коротких Савва Яковлевич и другие, имена которых, к сожалению, пока мы не знаем. На колокольне было 8 колоколов, 2 из которых, самые большие, имели даже свои имена: «Соболь» - 111 пудов 5 фунтов (1778 кг) и «Соболиха» - 61 пуд 20 фунтов (984 кг).

Рисунок 2.685 - Храмовый ансамбль в с. Чекуево (Мардинское). Фото начала 20 века (предположительно 1907 года) [82, фото].
Приход (на 1896 г., по преданию, уже существовавший около 500 лет) объединял 15 деревень, располагавшихся на обоих берегах р. Онеги (Большой и Малой) и на разном расстоянии от церквей: это Мардинская, Пянтино, Калитинская, Кузьминская (Наволок), Букоборы, Карбатово, Сергиево, Юксоозеро (Замох), Анциферово, Великосельская (Село), Огрушино, Павлово, Медведево, Чёково и Боровская (Большой Бор).
Новые деревни: Анциферовский Бор (жителей и 23 дома), Павловский Бор (243 жителя и 40 домов) и Сельский (Великосельский) Бор (92 жителя и 20 домов) проходят по описи за 1920 год. Всего же на этот год на территории бывшего Чекуевского прихода (и Чекуевского сельского общества) проживало 2899 человек, дворов - 544. Жители - крестьяне занимались земледелием, скотоводством, различными деревенскими ремеслами, рыболовством, отходничеством (работали за пределами своей волости). Были и зажиточные крестьяне, занимавшиеся торговлей, имевшие мельницы или небольшие кожевенные заводики.
После открытия железнодорожной ветки Вологда - Архангельск (1896 г.), от станции Обозерская был проложен тракт через Чекуево до Онеги. У местных жителей появилась дополнительная возможность заработка - перевозка грузов на своих лошадях или в качестве извозчиков в обозах. С началом организации колхозов (1930-1932 гг.) местные активисты начали «нарушать» церкви. Первой была разрушена колокольня, после того как с нее сбросили колокола. С зимнего Сретенского храма свалили главы и открыли в нем клуб. Когда была разрушена Успенская церковь - пока нет сведений. Величественный Преображенский храм распилили на дрова в 60-х годах XX века. Само село постепенно начало умирать.
На 2008 год в селе постоянно проживает один или два человека. Обезглавленный Сретенский храм неумолимо разрушается, гибнут и заброшенные огромные дома. Территория свободна для заселения, но кем?», - спрашивает читателя статьи ее автор С. Головченко [82, фото]. Кроме того, на этом портале опубликован фрагмент карты 1970-х годов с изображением окрестной села Чекуево и серия черно-белых и цветных фотографии села, его окрестностей, а также отдельных построек и сооружений (рисунки 2.686-2.723) [82, фото].

Рисунок 2.686 - Чекуево, вид со второго этажа на церковь и школьный сад (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.687 - Чекуево, ворота в школьный сад. Дом культуры (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.688 - Чекуево 72 год, проводы зимы (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.689 - 1973 год, проводы зимы в д. Чекуево (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.690 - Село Чекуево. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.691 - Село Чекуево. Храмовый ансамбль [82, фото].

Рисунок 2.692 - Деревня Чекуево, Преображенская церковь, 1687 г. (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.693 - Чекуево, дом Иконникова (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
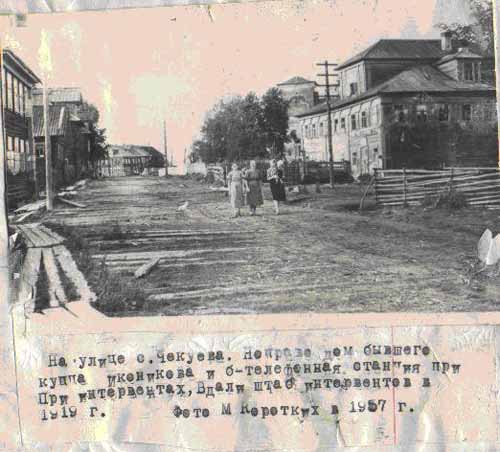
Рисунок 2.694 - На улице с. Чекуево. Направо дом бывшего купца Иконикова м б-ьелефонная чтанция при интервентах, вдали штаб интервентов в 1919 г. (фото М. Коротких, 1957 г.) [82, фото].

Рисунок 2.695 - Чекуево, 60-е гг. (автор съемки неизвестен, 1960-е гг.) [82, фото].

Рисунок 2.696 - Село Чекуево, фото с парохода (фото М. Коротких, 1957 г.) [82, фото].

Рисунок 2.697 - Село Чекуево, Сретенская церковь,1893 г. (автор съемки неизвестен, 2012 г.) [82, фото].
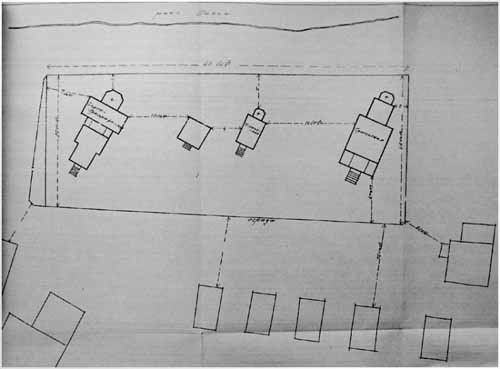
Рисунок 2.698 - Село Чекуево, фрагмент генплана (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.699 - Чекуево, на реке 60-е года, фото из архива Т.Н. Коротких [82, фото].

Рисунок 2.700 - Чекуево, деревенская улица (фото 50-60-х годов из архива Т.Н. Коротких) [82, фото].

Рисунок 2.701 - Село Чекуево, мельница в Чекуево, фото 1960-х годов [82, фото].

Рисунок 2.702 - Село Чекуево, фото начала ХХ века (автор съемки неизвестен) [82, фото].

Рисунок 2.703 - Село Чекуево, фото начала ХХ века (автор съемки неизвестен) [82, фото].

Рисунок 2.704 - Чекуево, дом И.И. Дьячкова. В 1918-1919 гг. в доме располагался штаб белых интервентов (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.705 - Чекуево, начало 20 века (автор съемки неизвестен) [82, фото].

Рисунок 2.706 - Село Чекуево (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.707 - Село Чекуево (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.708 - Село Чекуево (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.709 - Село Чекуево, Преображенская церковь (1689 г.) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.710 - Село Чекуево, бывшая церковь - крыльцо библиотеки (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.711 - Село Чекуево, Преображенская кубоватая церковь (1689 г.) Фото 1950-х гг. (автор съемки неизвестен) [82, фото].

Рисунок 2.712 - Село Чекуево, Преображенская кубоватая церковь (1689 г.) Фото 1950-х гг. (автор съемки неизвестен) [82, фото].

Рисунок 2.713 - Село Чекуево, тогда МЧС ещё не было (фото А.Я. Венедиктова (Онега), кон. 1960-х гг.) [82, фото].
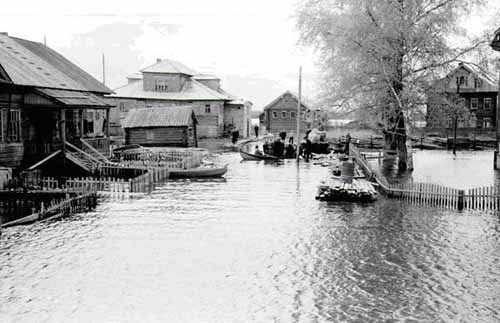
Рисунок 2.714 - Село Чекуево, вот это потоп! (фото А.Я. Венедиктова (Онега), кон. 1960-х гг.) [82, фото].

Рисунок 2.715 - Село Чекуево. Фото нач. XX в. Снимок из фондов музея г. Онеги (автор съемки неизвестен) [82, фото].

Рисунок 2.716 - Село Чекуево, перед ледоходом (фото А. Фомина (Онега), 2002 г.) [82, фото].

Рисунок 2.717 - Село Чекуево, все, что осталось от Сретенского храма (1893 г.) и Покровской часовни (? г.) (фото А. Фомина (Онега), 2001-2002 гг.) [82, фото].

Рисунок 2.718 - Село Чекуево, жизнь в прошлом (фото А. Фомина (Онега), 2001-2002 гг.) [82, фото].

Рисунок 2.719 - Село Чекуево, село опустело (фото А. Фомина (Онега), 2001-2002 гг.) [82, фото].

Рисунок 2.720 - Село Чекуево, часть уже нежилой застройки (фото А. Крысанова, осень 2004 г.) [82, фото].

Рисунок 2.721 - Село Чекуево. Остатки «новой» Сретенской церкви (1893 г.). Вид с юго-запада (фото А. Крысанова, осень 2004 г.) [82, фото].

Рисунок 2.722 - Село Чекуево. Преображенская церковь (1689 г.) Вид с юга. Фото нач. XX века из фондов Онежского историко-мемориального музея [82, фото].

Рисунок 2.723 - Село Чекуево. Остатки Преображенского храма. Фото 60-х гг. XX века из фондов музея г. Онеги [82, фото].
На этом же портале представлено 13 фотографий, посвященных деревне Пянтино. В их числе: панорама деревни Пянтино с картой 1970-х гг. (рисунок 2.724), два снимка дома Коротких (кон. 1950-х гг.) (рисунки 2.725 и 2.726) и дома М.И. Сынчикова (фото М. Коротких, 1957 г.) (рисунок 2.727), а также три снимка главной улицы деревни Пянтино (1957 г.) (рисунки 2.728-2.730), с [82, фото].
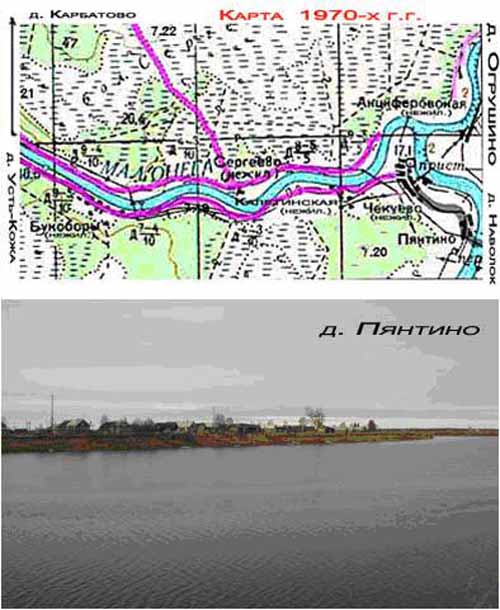
Рисунок 2.724 - Фотопанорама деревни Пянтина - Пянтинская - Пянтино - Пянтинский Бор, Чекуевская сельская администрация (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
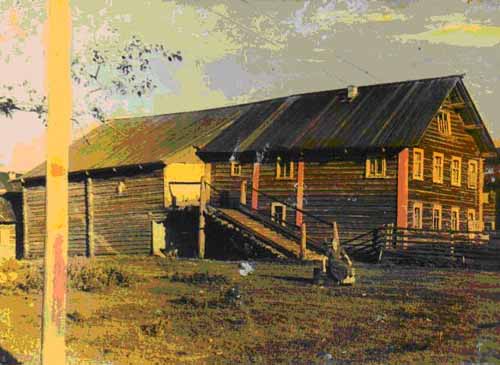
Рисунок 2.725 - Дом Коротких из деревни Пянтина - Пянтинская - Пянтино - Пянтинский Бор, Чекуевская сельская администрация (автор съемки неизвестен, кон. 1950-х гг.) [82, фото].

Рисунок 2.726 - Дом Коротких из деревни Пянтина - Пянтинская - Пянтино - Пянтинский Бор, Чекуевская сельская администрация (автор съемки неизвестен, кон. 1950-х гг.) [82, фото].
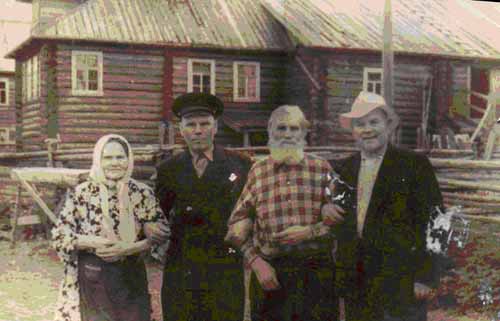
Рисунок 2.727 - У дома Матвея Ивановича Сынчикова. Пянтина - Пянтинская - Пянтино - Пянтинский Бор, Чекуевская сельская администрация (фото М. Коротких, 1957 г.) [82, фото].

Рисунок 2.728 - Главная улица деревни Пянтина - Пянтинская - Пянтино - Пянтинский Бор, Чекуевская сельская администрация (автор съемки неизвестен, 1957 г.) [82, фото].

Рисунок 2.729 - «Пянтовская улица». Улица Пянтина - Пянтинская - Пянтино - Пянтинский Бор, Чекуевская сельская администрация (автор съемки неизвестен, 1957 г.) [82, фото].
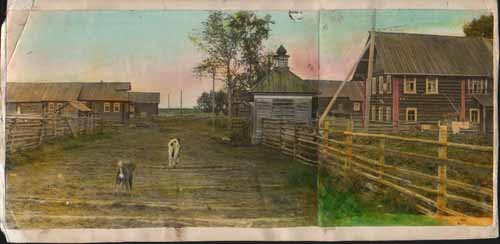
Рисунок 2.730 - Пянтина - Пянтинская - Пянтино - Пянтинский Бор, Чекуевская сельская администрация (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.731 - «Паромная переправа. Катер –«анфибия» привез новые фильмы в Чекуевский клуб».Пянтина - Пянтинская - Пянтино - Пянтинский Бор, Чекуевская сельская администрация (фото А.Я. Венедиктова (Онега), кон. 1960-х гг.) [82, фото].

Рисунок 2.732 - «Вместо коня - ворона». Пянтина - Пянтинская - Пянтино - Пянтинский Бор, Чекуевская сельская администрация (фото А. Крысанова (Онега), 2004 г.) [82, фото].

Рисунок 2.733 - «Тут уже не живут». Пянтина - Пянтинская - Пянтино - Пянтинский Бор, Чекуевская сельская администрация (фото А. Крысанова (Онега), 2004 г.) [82, фото].

Рисунок 2.734 - «Дом с новым хлевушком». Пянтина - Пянтинская - Пянтино - Пянтинский Бор, Чекуевская сельская администрация (фото А. Крысанова (Онега), 2004 г.) [82, фото].

Рисунок 2.735 - «Рыбацкий стан». Пянтина - Пянтинская - Пянтино - Пянтинский Бор, Чекуевская сельская администрация (фото В. Крысанова (Онега), 2004 г.) [82, фото].

Рисунок 2.736 - Пянтина - Пянтинская - Пянтино - Пянтинский Бор, Чекуевская сельская администрация (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
Необходимо также отметить, что на портале «Оnegaonline.ru» в разделе «Деревня Калетинская» представлен фрагмент топографической карты 1970 года окрестностей села Чекуево, фотография общего вида деревни Калетинская - Калитинская - Калетинское и четыре фотографии, выполненные Н. Сидоровой (Онега) в августе 2008 года (рисунки 2.737-2.740) [82, фото].
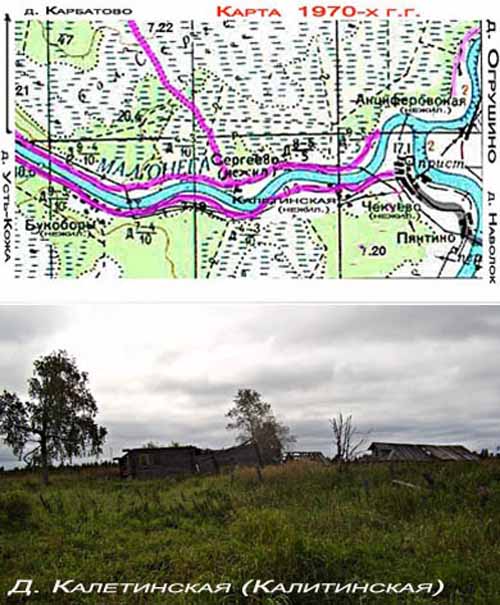
Рисунок 2.737 - Деревня Калетинская - Калитинская - Калетинское Онежского района Архангельской области. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.738 - Деревня Калетинская - Калитинская - Калетинское Онежского района Архангельской области. Вид от д. Калетинской на с.Чекуево (фото Н. Сидоровой (Онега), август 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.739 - Деревня Калетинская - Калитинская - Калетинское Онежского района Архангельской области. Один из сохранившихся домов (фото Н. Сидоровой (Онега), август 2008 г.) [82, фото].

Рисунок 2.740 - Деревня Калетинская - Калитинская - Калетинское Онежского района Архангельской области. Избушка на месте старого большого дома (фото Н. Сидоровой (Онега), август 2008 г.) [82, фото].
Дополнить приведенную характеристику позволяют также другие данные, представленные на портале «Onegaonline», где помимо фрагмента топографической карты 1970-х годов в районе деревни Наволок - Козьминская - Козминская Онежского района Архангельской области представлено четыре фотографии, авторы и время съемки которых остались неизвестными (рисунки 2.741-2.744) [82, фото].

Рисунок 2.741 - Деревня Наволок. Общий вид (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.742 - Деревня Наволок, т/х «Великий Устюг» (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.743 - Деревня Наволок, т/х «Великий Устюг» (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

Рисунок 2.744 - Деревня Наволок, т/х «Великий Устюг» при подходе к Наволоку (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].
В перспективе Чекуевская групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.2 Групповые системы населенных мест Северного Поонежья (Приморский район)
2.2.1 Ненокская ГСНМ, Ненокская сельская администрация, г. Северодвинск, Архангельская область.
Ненокская групповая система населенных мест находится в северо-восточной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 45 км к северо-западу от районного центра - города Северодвинск, а село Ненокса является административным центром Ненокской сельской администрации.
Ненокская ГСНМ расположена на западном берегу Ненокского озера и по обоим берегам впадающей в него с юга реки Верховки и образовалась в результате срастания деревень Заречка (1), Подозерье (2), Погост (3), Гора (3), Чирковская - Чирконос (4) и Заустречка (5) (рисунки 2.1, 2.745) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 43, с. 128, рис. 17.4, с. 172, рис.35.1; 47, с.154, рис.4.1, с. 157; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 12].

Рисунок 2.745 - Село Ненокса - Ненокский Посад (дд. Заречка, Подозерье, Погост, Гора, Чирковская - Чирконос, Заустречка), Ненокская сельская администрация, г. Северодвинск, Архангельская область. План. Обмер 1987 г.
На период полевых работ Историко-архитектурной экспедиции Петрозаводского государственного университета 1987 года в селе Ненокса - Ненокский Посад (за исключением деревни Заустречка) насчитывалось 274 жилых дома. В том числе: в деревне Заречка - 58, в деревне Подозерье - 72, в деревне Погост - 41, в деревне - Гора - 42 и в деревне Чирковская - Чирконос - 61 жилой дом.
По характеру акцентировки пятна застройки Ненокская ГСНМ относится к акцентированным групповым системам. О культовых сооружениях в селе Ненокса имеются следующие сведения. Храмовый комплекс, расположенный в центре села, в состав которого по сведениям из исторических и литературных источников входили: летняя Троицкая церковь, построенная в 1727 году [63, с. 54, рис. 1.52.б] (по другим источникам - в 1729 году [18, с. 194, 196-197, рис.; 36, с. 214-215], зимняя Никольская церковь, возведенная в 1783 году (по другим источникам - в 1763 году) и колокольня 1834 года (рисунки 2.746-2.747). Кроме того, по сведениям, полученным от местных жителей, на юго-западной окраине села на сельском кладбище ранее существовала еще и деревянная кладбищенская (предположительно - Климентовская) церковь, стоявшая на месте нынешней триангуляционной вышки.
Архитектурно-типологическое описание планировки и застройки Ненокской ГСНМ, содержащееся в формуле «К1/2(2)(01.6->01.1), ПК1/1, Т2/2(1), ПТ2, В4:[В2/1(2)+В2/2(2)+В3/1(2)], ПВ5:[ПВ4:[ПВ2+ПВ3]/3(3)(01.1)(02.1)(03.2)(04.1)->ПВ3/2(1)(01.1)(02.1)], Р4:[Р1+Р2]», приведено в приложении А и в таблице Б.1.
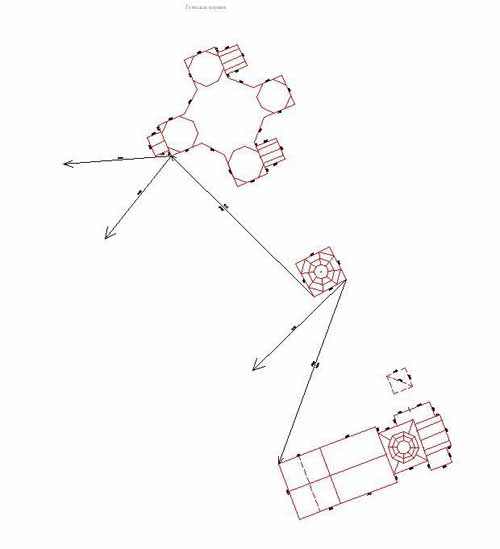
Рисунок 2.746 - Село Ненокса - Ненокский Посад. Храмовый комплекс. План. Обмер 1987 г. Ненокская сельская администрация, г. Северодвинск, Архангельская область.
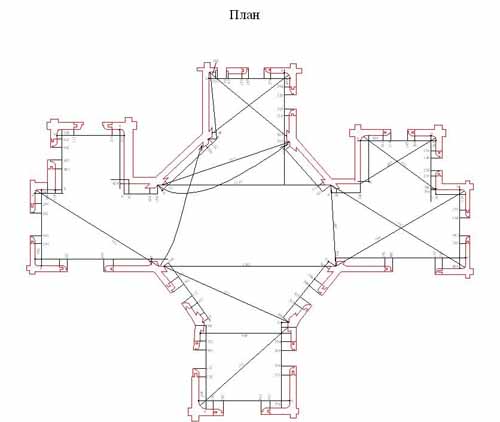
Рисунок 2.747 - Село Ненокса - Ненокский Посад. Троицкая церковь (1727 г.). План. Обмер 1987 г. Ненокская сельская администрация, г. Северодвинск, Архангельская область.
Дополнить приведенную характеристику Ненокской ГСНМ позволяют сведения, приведенные в статье архитектора П.П. Медведева «Принципы и приемы архитектурно-пространственной организации жилой среды сельских поселений Беломорского Поморья» [45]. «По аналогии с единичными архитектурными сооружениями, в принципах и приемах организации внешнего и внутреннего жилого пространства которых исследователями выявлены существенные различия (прим. 26 - Иконников А.В., Степанов Г.П. Основы архитектурной композиции - М.: Искусство, 1971. - с. 20 [30, с. 20]), применительно к сельским поселениям можно говорить об особенностях их архитектурно-пространственной организации относительно внешнего и внутреннего зрительного восприятия. Исходя из этого, автор на уровне типов провел анализ особенностей внешнего зрительного восприятия традиционных поморских поселений, используя основные теоретические положения классификации, разработанной В.Р. Рывкиным применительно к композициям Валаамского архитектурно-ландшафтного комплекса (прим. 27 - Рывкин В.Р. Формирование архитектурно-ландшафтной среды в условиях Карелии на примере Валаамского комплекса: Композиционные и историко-архитектурные аспекты. Т. 1. - Дис. на соиск. учен. степени канд. архитектуры - Петрозаводск, 1981. - с. 92-96 [91, с. 92-96]), и дополняя их на уровне вариантов подразделениями из классификации Ю.С. Ушакова (прим. 28 - Ушаков Ю.С., указ. соч., с. 39-40 [107, с. 39-40]) (см. рис. 1).
Проведенный анализ показал, что на территории Беломорского Поморья явно преобладают поселения с открытой для внешнего зрительного восприятия композицией (тип «А» - 59,81%), воспринимающиеся преимущественно с внешних направлений при подходе по водным путям и реже при движении по сухопутным дорогам на расстоянии от 3 до 5 км (рис. 3). Благодаря тому, что уже с дальних подходов становятся обозримыми архитектурные доминанты (культовые сооружения и храмовые комплексы) или отдельные элементы жилой застройки, к восприятию таких поселений зритель подготовлен заранее. При движении к ним основную первоначальную информацию несет силуэт архитектурных форм, поэтому становится понятным повышенное внимание народных строителей к поиску и созданию сложных контуров сооружений (главным образом культовых), выполняющих не только эстетические функции, но и роль ориентиров в пространстве.
По территории Поморья поселения с открытой композицией распределены неравномерно, концентрируясь на Архангельском и Поморском берегах. Именно здесь в прошлом проходили пути наиболее активного колонизационного движения новгородских переселенцев. Многие поселения в этом случае служили транзитными перевалочными пунктами на пути к Белому морю и выполняли роль пространственных ориентиров в слабо освоенных районах Крайнего Севера. Но кроме утилитарных требований, открытые композиции несли и идейно-художественную нагрузку, символизируя господство человека над суровой окружающей природой и необъятными просторами этого дикого края, являясь акцентами в относительно монотонном поморском ландшафте. Большая часть поселений типа «А» относится к числу наиболее древних населенных пунктов Беломорского Поморья, время возникновения которых датируется XV веком. В их числе Сумский Посад, Шуерецкое, Нюхча на Карельском и Нименга, Ненокса, Солза на Архангельском берегах (прим. 29 - Ушаков И.Ф. Кольская земля: Очерки истории Мурманской области в дооктябрьский период - Мурманск: Мурманское кн. изд-во, 1972. - с. 31 [106, с. 31]) (см. рис. 2, 3; рис. 4)» (рисунок 2.748) [45, с. 152, 154, рис. 4].
Сведения о селе Ненокса содержатся также в книге академика И.Э. Грабаря «История русского искусства» [16; 17]. В разделе «Деревянное зодчество Русского Севера» в XIX главе под заголовком «Шатровые храмы» И.Э. Грабарь писал: «К числу крестообразных церквей и притом последней стадии их развития нужно отнести и Троицкую церковь в посаде Ненокса, где группа из пяти шатров подчинена «освященному пятиглавию». Построенная в 1729 году [«Краткое историческое описание приходов и церквей Арханг. Епархии», вып. I, стр. 215], она общей группой своих шатров совершенно уничтожает выразительность двух ее приделов, алтарные прирубы которых, покрытые бочками, как-то теряются и стушевываются в целой композиции храма» (рисунки 2.749-2.750) [16; 17; 36, с. 215].
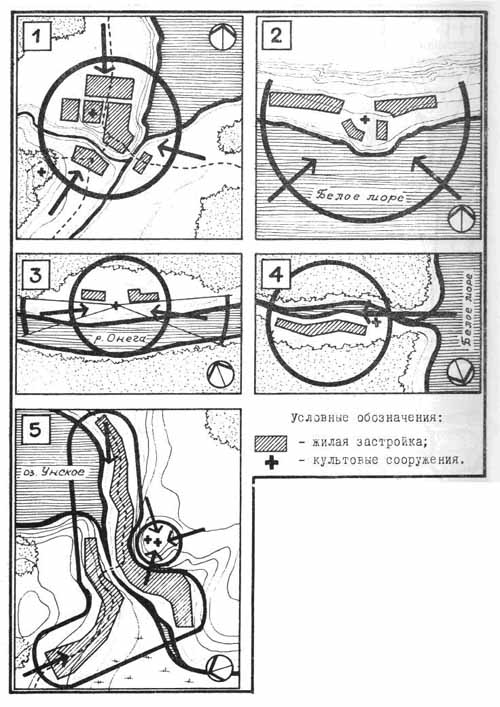
Рисунок 2.748 - Варианты типов объемно-планировочных структур сельских поселений Беломорского Поморья: 1 - центричные с круговым восприятием (с. Ненокса, Приморский район Архангельской области), 2 - с полукруговым восприятием (д. Тетрино, Терский район Мурманской области), 3 - с линейным восприятием (д. Корельское, Онежский район Архангельской области), 4 - с фронтальным восприятием (д. Летняя Золотица, Приморский район Архангельской области), 5 - со смешанным восприятием (д. Нижмозеро, Онежский район Архангельской области) [45, с. 154, рис. 4].

Рисунок 2.749 - Троицкая церковь в посаде Ненокса Архангельского уезда. - 1727 г. (Фото В.В. Суслова) [16, рис.; 17, рис.].
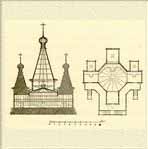
Рисунок 2.750 - Троицкая церковь в посаде Ненокса Архангельского уезда. - 1727 г. (Обмеры В.В. Суслова) [16, рис.; 17, рис.].
Далее в XXIV главе под заголовком «Внутреннее убранство храмов» И.Э. Грабарь отмечал, что «при всем видимом несходстве различных типов древнего храма его внутреннее устройство представляет в общих чертах неизменно один и тот же характер. В каждом храме неизбежно повторяются три главных его части - центральное помещение для молящихся, алтарь, примыкающий к нему с востока, и «трапеза», прирубленная с запада. Как бы ни был высок и могуч храм извне, внутри он совершенно не соответствует своему внешнему виду. И тот, кому впервые приходится видеть один из северных храмов богатырей, бывает очень озадачен, когда, готовясь войти в исполинское, поднимающееся к небу помещение, внешним обликом которого он только что был так потрясен, - он неожиданно попадает в низкую и мрачную стройку, род сеней, вышиной редко более 5 аршин. Это и есть «трапеза», или собственно «трапезная», т. е. помещение для трапезы, но в народе сохранилось первое название, упоминаемое обычно и в древних актах. Отсюда низкая дверь ведет в главное помещение для молящихся, но и здесь тщетно было бы искать высоты, хотя бы несколько напоминающей «поднебесную» высоту шатра и его главы. Здесь потолок лишь на аршин, много на два, выше трапезы, и не только нет и помина о шатре, но и до его повалов потолок никогда не доходит. Суровые стужи и жестокие ветры заставили ограничить помещение храма обидно тесными рамками и низвели все потрясающее величие его шатров, кубов, бочек, теремков и глав на степень простой декорации. Это особенно ясно видно на разрезах различных церквей, где невзрачные клетушки внутренних помещений кажутся точно крошечными сердцевинами гигантских орехов, обросших невероятной толщины корой и чудовищными наростами».
Кроме того, И.Э. Грабарь писал, что «из приведенных данных о внутреннем убранстве деревянных храмов и о явном сходстве их бытовых частей с жилищем возможно - с древними описаниями в руках [Обширный материал в этом роде есть в книге И.Е. Забелина «Домашний быт русских царей»] - воссоздать детальную картину убранства древних хором. Хитрая резь столбиков и столбов с их причудливыми подкосами, легкая узорчатая опушка пристенных лавок, уют небольших окон, волоковых и красных - чередовались с картинно-красочной орнаментальной росписью дверей и с торжественной важностью «красного» переднего угла. Недостает лишь «шатерного наряда», чтобы прикрыть всю простоту обычной обстановки. Раскраска потолка и столбов пучужской церкви дает понятие о росписи хоромных «подволок», фигурные же висячие потолки Троицкой церкви в Неноксе - наглядно показывают, как устраивалось так называемое «небо» над восьмериком и четвериком храмов, показывают также, каковы бывали в хоромах и теремах «вислые подволоки»» [16].
Аналогичные сведения представлены и в книге И.Э Грабаря «О русской архитектуре. Исследования. Охрана памятников», изданной в 1969 году [18]. В книге представлена иллюстрация с изображением разреза Троицкой церкви в селе Ненокса Приморского района Архангельской области, выполненного по обмерам архитектора В.В. Суслова, и фотография 1900-х годов [18, с. 194, 196-197, рис.].
Сведения о селе Ненокса и о его храмовом комплексе содержатся также в работе архитектора Ю.С. Ушакова «Ансамбль в народном зодчестве Русского Севера: Пространственная организация, композиционные приемы, восприятие» [107, с. 132-133, рис. 101.1]. В разделе под заголовком «Приемы архитектурно-пространственной организации селений и их систематизация» Ю.С. Ушаков приводит классификационную таблицу традиционных поселений, в числе которых упомянуто село (старинный поморский посад) Ненокса Северодвинского района Архангельской области, «расположенное на Летнем берегу Белого моря в 6 км от устья реки того же названия» и отнесенное им «к приморско-приречным селениям с центрической композицией при круговом восприятии» типа «I, A, 3, б» (рисунок 2.10) [107, с. 40-41, табл. 2, с. 60].
А, характеризуя объемно-планировочное решение храмового комплекса, состоящего из Троицкой церкви (1729 г.); Никольской церкви (1763 г.) и колокольни (1834 г.), Ю.С. Ушаков отмечал, что «появление теплой церкви и позднее колокольни, обслуживавшей обе церкви - теплую и холодную, привело к образованию традиционной для русского погоста триады, намного увеличившей композиционные возможности народных зодчих. Расположение трех построек по диагонали друг к другу - естественное развитие двухчастной диагональной композиции (рис. 101). Колокольня, как бы связывая воедино оба храма, ставилась между ними так, например, как это сделано в селах Нёноксе (Северодвинский район Архангельской области), Верховье (Верхнем Мудьюге) и Усть-Коже (Макарьино) Онежского района (рис. 101, 1, 2 и 3). И величина сдвижки построек относительно друг друга, и ее направление в каждом случае были сугубо индивидуальны и зависели от ориентации, рельефа и восприятия общественного центра села с основных направлений» (рисунок 2.12) [107, с. 130, 132-133, рис. 101.1].
Упоминание о храмовом ансамбле в селе Ненокса имеется также в работе архитекторов В.И. Пилявского, А.А. Тица и Ю.С. Ушакова «История русской архитектуры» с представлением изображений западного фасада и плана Троицкой церкви, построенной в 1727 году [63, с. 54, рис. 1.52.б].
Дополнить приведенную выше характеристику позволяют также сведения, опубликованные на портале «Наш край» («Nashkraysev.ru») в разделе «Архангельские земли: История и культура Русского Севера» и в подразделе «Архангельские тройники» [71].
«Архангельский тройник - что это? Архитектурный ансамбль, в который входят две церкви и колокольня, церковь шатровая, церковь кубоватая и колокольня, это так называемый Архангельский тройник. Тройники стояли когда-то по всей Архангельской области, но сейчас подавляющее большинство уже утеряно полностью или частично. Почему строилось две церкви. Одна церковь была летняя, другая зимняя. Английский путешественник Антоний Дженкинсон писал: «дома построены из еловых бревен, соединяемых вместе и закругленных снаружи; они квадратной формы, без каких-либо железных или каменных частей, крыты берестой и лесом поверх ее. Все их церкви деревянные, по две на каждый приход: одна, которую можно топить зимою, другая - летняя. Первая церковь возводилась в честь Николая Чудотворца, который считался покровителем поморов и являлся самым почитаемым святым. В поморской среде Николая почитали как первого из тех могущественных небожителей, к кому следовало обращаться с молитвой в тяжкий час бедствий и странствий в океане, и чаще называли его еще и Николой Морским. Раньше даже бытовала такая присказка «От Холмогор до Колы - тридцать три Николы». Присказка эта, конечно, образная, поскольку, если быть точным, монастырей, церквей и часовен, носящих имя этого чудотворца, на указанном пространстве имелось даже больше, чем тридцать три. Самым мощным оплотом православия среди них являлся Николо-Корельский монастырь. У поморов постоянно крепла вера в чудотворную силу святого. Здесь в каждом доме имелась икона Святого Николая. К Николе во многих местах Поморья приурочивали первый выход судов в море. Большинство промысловых и торговых судов наших предков на Беломорском Севере носило название «Святой Николай», причем традиция называть корабли именем этого чудотворца и угодника сохранилась вплоть до самого конца 19 века. Вторая церковь возводилась в честь какого-либо православного праздника» (рисунки 2.751-2.752) [71, фото].
На этом же портале в разделе «Поселения и архитектура» содержится еще и такая информация. «На приморском побережье и в приустьевых частях рек расположены старинные поморские поселения, многие из которых насчитывают сотни лет. Здесь сохранилось множество старинных построек, представляющих традиционную архитектуру Поморья. Особое место среди них занимают культовые сооружения.

Рисунок 2.751 - Село Ненокса, Летний берег. Никольская церковь (1763 г.) и колокольня (1834 г.) (автор и время съемки неизвестны) [71, фото].

Рисунок 2.752 - Село Ненокса, Летний берег. Троицкая церковь (1727 г.) разобрана и восстанавливается (автор и время съемки неизвестны) [71, фото].
На Севере храмы чаще всего ставились не среди жилых строений, как это было принято в других местностях России, а несколько в стороне от деревни, обычно на возвышенных местах. Рядом с храмами располагались кладбища. В некоторых деревнях в более позднее время кладбища были перенесены на новые места.
Основным типом храма является шатровая церковь с примыкающей к ней с запада низкой трапезной частью. Этот тип храма начал широко распространятся в XVII веке и стал господствующим в русских деревнях и селах в последующие столетия. К этому типу зданий принадлежат дошедшие до нашего времени старинные храмы в Пурнеме, Кянде, Никольская церковь в Неноксе и ряд более поздних храмов, возведенных в прошлом и начале нынешнего века.
Троицкая Церковь в древнем посаде Ненокса - единственный дошедший до нашего времени пятишатровый деревянный храм. Здание было построено в 1727 году и с некоторыми изменениями дошло до наших дней. Основу его композиции составляет восьмигранный сруб-восьмерик, к которому с четырех сторон по сторонам света примыкают прирубы. Восьмерик и прирубы увенчаны шатрами» [71].
Интерес также представляют сведения, опубликованные на портале «Деревянное зодчество» («M-der.ru») [67]. В разделе «Русское деревянное зодчество: Культовые постройки: Культовые ансамбли» сообщается, что «в истории деревянного зодчества различают два типа композиций культового ансамбля. Первый - включал церковь и поставленную затем около нее колокольню. Второй состоял из летней церкви, зимней и колокольни, так называемый северный «тройник».
Появления «тройника» существенно обогатило композиционные возможности ансамбля. Первая пространственная композиция это расположение построек по диагонали. Колокольня располагалась между двумя храмами, объединяя их (село Ненокса, село Верховье, село Усть-Кожа)» (рисунок 2.753) [67, фото].

Рисунок 2.753 - Ансамбль села Ненокса. Никольская церковь 1725-1764 гг., колокольня (реставрация 1989 г.), Троицкая церковь 1725-1764 гг. (автор и время съемки неизвестны) [67, фото].
На этом же портале в разделе «Шатровые церкви» приведена следующая информация. «По композиционному решению шатровые храмы можно разделить на семь типов… Четвертый тип восьмерик «от пошвы» с шатром, Известен с XIII в, имеющий западный притвор трапезной, алтарный прируб и один или два придела, с севера и юга. Приделы иногда имели собственные алтари. Такие храмы называли «о двадцати стенах» или «круглыми», так как они имели центрическую композицию в плане (Введенская церковь на Сурском погосте, Троицкая церковь погоста Ненокса)» (рисунок 2.754) [67, фото].

Рисунок 2.754 - Троицкая церковь. Погост Ненокса. Архангельская область. 1727 г. [67, фото].
Интерес также представляет статья заслуженного архитектора России, член-корреспондента Российской Академии архитектуры В. Кибирева из сборника «Памятники Архангельского Севера» [32], опубликованная с небольшими сокращениями на портале «Kenozerje.17-71.com» [68, фото]. В разделе «Храмовое строительство: шатровые церкви» автор статьи писал: «Вторая половина XVII в. отмечена изменениями архитектуры культовых сооружений после реформ патриарха Никона, одна из которых требовала обязательное пятиглавие: «церковь строить по правилам святых апостол и святых отец, чтоб была о пяти верхах, а не шатром». Тем не менее излюбленная народом шатровая форма продолжала жить. Один из примеров тому - Троицкая церковь (1729) в ансамбле старинного Ненокского погоста на берегу Белого моря, единственный образец пятишатрового храма. План церкви представляет собой равноконечный крест, т. е., по существу, это «круглая о двадцати стенах» церковь, где каждая из пяти основных частей является как бы отдельной шатровой церковью. Центральная высотой около 40 м срублена на двух восьмериках, в которых верхний — меньшей ширины, а боковые построены по принципу «восьмерика на четверике». Церковь интересна стропильной конструкцией главного шатра. Прекрасные пропорции, высокая строительная культура, композиционная цельность делают этот памятник как бы завершающим эволюцию развития шатровых храмов.
Сохраняя форму шатра и в то же время удовлетворяя официальным требованиям пятиглавия, изобретательность и талант зодчих-древоделов пинежско-мезенской школы создали новый тип храма «шатер на крещатой бочке» (бочка – крыша килевидной формы. Пересечение двух бочек образует крещатую бочку). Сущность этого приема заключалась в том, что шатер ставился не на восьмерик, а на четвериковый сруб. В нижнюю часть шатра врезались четыре бочки, завершаемые главками и дававшие шатру крещатое основание» [32; 68].
Интерес также представляют данные, приведенные в статье туриста-путешественника И. Балабанова «На поморской земле» [10], опубликованной в газете «Вольный ветер» в 2000 году и представленной на туристическом портале «Куда.ua» [103].
«К Онежскому полуострову, что в Архангельской области, я присматривался давно: очень хотелось обойти этот кусочек северной земли, который заманчиво «высунулся» из материка в Белое море. В марте этого года мечту удалось осуществить. Команда, состоящая из пятерых москвичей-горников (Сергей Адамов, Дмитрий Брусков, Владимир Мухин, Владимир Шиповский и автор этих строк), подобралась на удивление быстро. У троих из нас кое-какой опыт лыжных путешествий имелся, двое были лыжниками-новичками. Но это не помешало всем пройти за 14 дней 350 км вокруг полуострова. Похоже, мы первыми проделали такой путь зимой на лыжах (во всяком случае ни в Москве, ни в Северодвинске, ни в сёлах на маршруте подтверждений прохождения ранее его мы не нашли).
К началу маршрута, пос. Ненокса, мы планировали доехать на местном поезде (его тут называют «мотовоз»). Но оказалось, что без пропуска это совершенно невозможно: в районе посёлка военные объекты. Получить же пропуск ни в Москве, в ГУ ВМФ, ни на месте нам не удалось. К счастью, от Северодвинска в сторону г. Онега строят Онежский тракт. По нему мы и проехали на «Газели» до заповедного урочища Куртяево. Недалеко от моста через р. Верховка живет сторож, который проводил нас к часовне. Внутри - родник с кристальной водой. Рядом с часовней грязевая ванна и три источника. Как сказал сторож, «от сердца», «от желудка» и «от легких». Испив целебной воды, мы осмотрели деревянную Алексеевскую церковь 1721 года, она в 10 минутах ходьбы от часовни.
От сторожа мы узнали, где идет зимник в пос. Ненокса (каждый год его прокладывают по-разному). Хорошо накатанная 14 - километровая дорога привела нас в большой посёлок. На протяжении 500 лет этот поморский посад был одним из крупнейших поставщиков соли на рынки России. В Неноксе несколько магазинов, почта, деревянная церковь XVIII в., две часовни. Зимой туристы бывают здесь не часто. Отсюда видны многоэтажные дома военного городка Сопка. Зимником по озеру Нижнее, оставляя Сопку справа, затем по р. Верховка направляемся к морю. Через час впервые увидели Двинский залив Белого моря (участок Онежского п-ва от устья р. Северная Двина до мыса Ухтнаволок, где предстоит идти, называется Летним берегом). Желания выйти на лёд не возникло: в прибрежной зоне глубокий снег, отсутствие наста и нагромождение льдов («ропаки», по-местному)» [10; 103].
Упоминание о Неноксе имеется также в работе историка-языковеда И.А. Елизаровского «Язык беломорских актов XVI-XVII вв.» (1958 г.), представленной на портале «BVSV.livejournal.com» 27 января 2012 года в разделе «Вопросы к истории», «Население Северного Поморья в древности» [85].
«В XIII-XV вв. новгородская колонизация Северного поморья усиленно продолжалась. История сооружения христианских храмов убедительно показывает, что в это время только на участке Северной Двины, от устья Емцы до впадения Двины в море, примерно, на расстоянии 180 километров, накопилось настолько значительное крестьянское население, что оно могло построить в 20 поселках храмы и содержать церковный клир. В частности, «Двинские грамоты XV в.» упоминают церкви в Усть-Емце, Ступине, Ровдине, Матигорах, Курострове, Холмогорах, Залывье, Чухченеме, Ухтострове, Прилуках, Лявле, Курье, Княжестрове, Лисестрове, Заостровье, Вознесенье, Кехте, Лодме, Бревеннике, Пурнаволоке (1). Тогда же возникли храмы и, следовательно, значительные селения и на берегах Белого моря: в Солзе, Неноксе, Уне, Пурнеме, Яреньге, Лямце, Поньгаме, Колежме, Шуе, Сороке, Суме, Ковде» [85].
Сведения о селе Ненокса содержатся также в отчете о велосипедном туристском путешествии V категории сложности по Кольскому полуострову и Архангельской области, совершенном членами Санкт-Петербургского городского клуба туристов Ленинградского Областного Совета по туризму и экскурсиям с 29 июля по 22 августа 1992 года [62].
Из дневниковых записей этой экспедиции становится известным, что «20.08. На море, распростертом несколько ниже, дует сильный ветер, а в лесу тихо. В конце концов, тропа кончается пологим спуском к берегу моря. Оказавшись на берегу и проехав вперед по вполне приличной дороге, подошли к берегу ручья. Здесь следует отклониться вправо вверх по его течению с тем, чтобы пересечь ручей по широкому дощатому мосту.
Дальше вдоль берега реки Верховка идет плотная широкая дорога, вся изрезанная огромными лужами, которые приходится постоянно объезжать. Проехав по этой дороге 4 км, попадаешь в пос. Ненокса. В поселке стоит красивая церковь постройки 1727 года, в настоящее время реставрируется (рисунок 2.755). Дорога вдоль берега моря между поселками Ненокса и Солва перекрыта базирующимися на побережье воинскими частями, так что для продолжения похода приходится искать объездные пути. Возле церкви спустились вниз к реке, к водозабору и, повернув на бетонке в правую сторону, поехали вначале по гравию, а затем по тропе до ручья Карахта. До ручья 6 км. На берегу ручья стоит старинная церковь, а возле нее целебный источник Куртяевский. На берегу ручья и заночевали» [62, фото].

Рисунок 2.755 - Ненокса (автор и время съемки неизвестны) [62, фото].
Интерес также представляют фотоматериалы о селе Ненокса, опубликованные на портале «Images.yandex.ru› (Яндекс. Картинки) (рисунки 2.756-2.809) [79, фото].

Рисунок 2.756 - Фотография Нёнокса из раздела пейзаж 2631673 - фото.сайт - Photosight.ru (http://www.photosight.ru/photo…) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.757 - Зодчество Записи в рубрике Зодчество Вече РУСИЧИ: LiveInternet - Российский Сервис Онлайн-Дневников. Село Ненокса (http://www.liveinternet.ru/com) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.758 - Зодчество Записи в рубрике Зодчество Вече РУСИЧИ: LiveInternet - Российский Сервис Онлайн-Дневников. Нёнокса Троицкая церковь, 1727 г Фото А. Тилипмана (http://www.liveinternet.ru/com…; http://venividi.ru/files/img/153/tilipman_2s.jpg) (время съемки неизвестно) [79, фото].

Рисунок 2.759 - Зодчество Записи в рубрике Зодчество Вече РУСИЧИ: LiveInternet - Российский Сервис Онлайн-Дневников. Нёнокса Троицкая церковь, 1727 г Фото А. Тилипмана (http://www.liveinternet.ru/com…; http://www.4turista.ru/files/imagecache/prev800/files/tilipman_4s.jpg) (время съемки неизвестно) [79, фото].

Рисунок 2.760 - Сайт архангельских велосипедистов - Ненокса - Кр. Гора '07. Ненокса - России золотник (http://ba.aetc.ru/index.php?se…; http://www.bikeangelsk.ru/foto/2007/nenoksa07/Pic05.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.761 - Сайт архангельских велосипедистов - Ненокса - Кр. Гора '07. Ненокса - России золотник (http://ba.aetc.ru/index.php?se…; http://www.bikeangelsk.ru/foto/2007/nenoksa07/Pic17.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.762 - Северная неделя. Нёноксу спасут от «голодной смерти» (http://www.vdvsn.ru/novosti/re…; http://ns2.philol.msu.ru/~dialectology/i/nionoksa/nionoksa3.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.763 - Нёнокса. Картинки (http://sobiratelzvezd.ru/nyono…; Пины с сайта «cs10480.vk.me», http://pinme.ru/search/source/…; Нёнокса. ВКонтакте (http://vk.com/club39224047ж; Нёнокса / Село у Белого моря (http://photocentra.ru/work/415…; www.fotoles.ru; http://s013.radikal.ru/i325/1109/10/af498f32a59f.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].
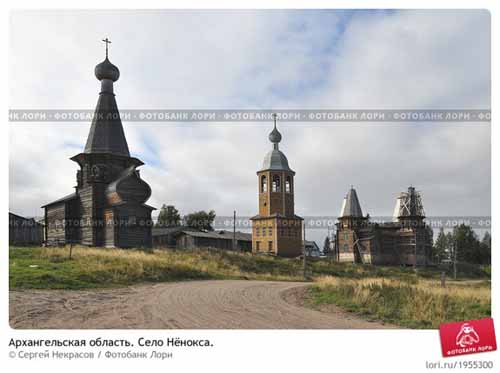
Рисунок 2.764 - Архангельская область. Село Нёнокса.; фото 1955300, фотограф Сергей Некрасов, снято 30 августа. Фотобанк Лори (http://lori.ru/1955300; http://prv0.lori-images.net/arhangelskaya-oblast-selo-nenoksa-0001955300-preview.jpg) (фото С. Некрасова, 30 августа) [79, фото].
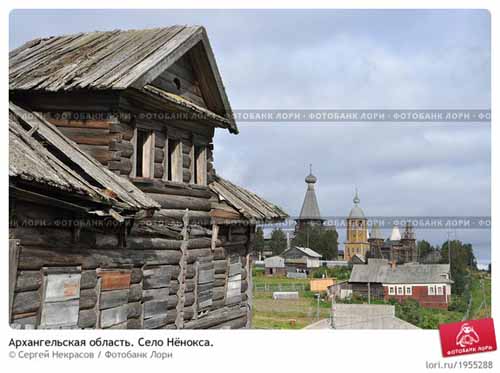
Рисунок 2.765 - Архангельская область. Село Нёнокса.; фото 1955288, фотограф Сергей Некрасов, снято 30 августа. Фотобанк Лори (http://lori.ru/1955300; http://prv0.lori-images.net/arhangelskaya-oblast-selo-nenoksa-0001955288-preview.jpg) (фото С. Некрасова, 30 августа) [79, фото].

Рисунок 2.766 - Форточка в Европу (http://www.autoreview.ru/archive/2006/10/vezdehod/750/pix/21_vezdehod.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.767 - Чудо о пяти шатрах. Троицкая церковь в селе Нёнокса. Рамблер-Новости (http://news.rambler.ru/2109404…; http://portal-kultura.ru/upload/medialibrary/9e8/NENOKSA_kult_00613.jpg; (http://fotki.yandex.ru/users/k…) (автор съемки неизвестен, сентябрь, 08:35) [79, фото].

Рисунок 2.768 - Загадочная Нёнокса: созвездие храмов старинного посада (http://www.echosevera.ru/data/images/article/31/00/00000031.jpg) [79, фото].

Рисунок 2.769 - Нёнокса (http://nashkraysev.ru/index.ph…; http://www.o-k.com.ua/upload/iblock/75f/14691540.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.770 - Нёнокса (http://ionov.flamber.ru/photos…; http://i.flamber.ru/files/st8/1162123695/1351452305_g.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.771 - Нёнокса осенью. Фотографии автора: Zenitspb, Клуб Foto.ru (http://club.foto.ru/gallery/images/photo/2010/11/05/1663241.jpg) (автор «Zenitspb», время съемки неизвестно) [79, фото].
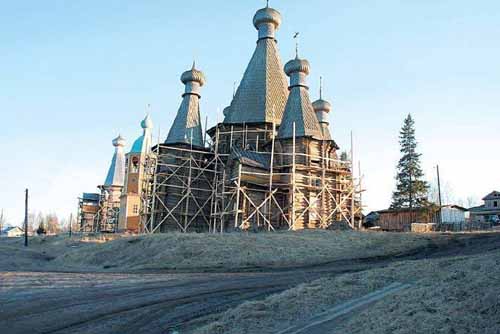
Рисунок 2.772 - 600 лет Неноксе, видео фото (http://allphoto.in.ua/photo/49/es2506688.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.773 - Полночь в Нёноксе (http://severodvinska.net/forum; http://hayabuzo.flamber.ru/127…; http://i.flamber.ru/files/st8/1162123695/1365449450_o.jpg) (автор «Alexey S Eaonov», время съемки неизвестно) [79, фото].

Рисунок 2.774 - Архивные фотографии Нёноксы в основном из фондов ГААО (http://bars-of-cage.livejourna…; http://img96.imageshack.us/img96/6132/troica1925.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.775 - Ненокса (Северодвинск) Фото Планета (http://photo.foto-planeta.com/view/4/0/8/nenoksa-40825.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.776 - Село Нёнокса .(http://www.severodvinsk.info/img/pr/2013/01/09/Nenoksa.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.777 - Тихая Россия Ильи Глазунова. Глазунов И.С. Погост Ненокса 1967 (http://yablor.ru/blogs/tihaya-…). Нёнокса (Nenoksa - pomorskie village (1397)) - Архангельская область, Россия - - en. Нёнокса - поморское село (http://findmapplaces.com/15573…; http://www.pereplet.ru/portfel/glazunov/bio/glazunov_pogost.jpg) [79, фото].

Рисунок 2.778 - Экспедиция в деревню Нёнокса Приморского района (http://old.philol.msu.ru/~dial…; http://www.philol.msu.ru/%7Edialectology/i/nionoksa/nionoksa1.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.779 - «Весна в Нёноксе» Ненокса (Северодвинск) Фото Планета (http://photo.foto-planeta.com/view/4/0/8/nenoksa-40823.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.780 - 35PHOTO - Илья Михайлович - Нёнокский посад (http://shar.35photo.ru/photo_2…; http://i043.radikal.ru/1105/6a/9ec8a5fe4ea7.jpg) (время съемки неизвестно) [79, фото].

Рисунок 2.781 - Церковь Троицы Живоначальной - Ненокса - Приморский район (http://sobory.ru/pic/11600/11605_20090209_160327.jpg) (автор съемки неизвестен, 28 июня 2006 г.) [79, фото].

Рисунок 2.782 - Троицкая церковь в селе Нёнокса. Газета «Культура» Пророссийское общественно-политическое издание. Публицистика, репортажи, интервью (http://portal-kultura.ru/index…; http://i.flamber.ru/files/st8/1162123695/1351452305_f.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.783 - Общество - Северная неделя. Северодвинская молодежь будет развлекаться на военной базе Ненокса (http://www.vdvsn.ru/novosti/ob…; http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=43511850-52-72&n=21) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.784 - Архангельская область. Приморский район. Северодвинск. Ненокса. Церковь Троицы Живоначальной. Колокольня. Фотография. Ансамбль Троицкой и Никольской церквей в Нёноксе Архангельской области (http://temples.ru/show_picture…; http://photos.wikimapia.org/p/00/02/23/24/90_full.jpeg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.785 - Архангельская область. Приморский район. Северодвинск. Ненокса. Церковь Троицы Живоначальной. Фотография (http://temples.ru/show_picture…; http://photos.wikimapia.org/p/00/02/23/24/97_full.jpeg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.786 - Колокольня при Троицкой и Никольской церквах в Нёноксе. Архангельская область Приморский район Северодвинск (http://www.temples.ru/private/f000450/450_0064452b.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.787 - Нёнокса. Творчество северодвинского художника - Страница 13 - BernClub - все о зенненхундах (http://bernclub.ru/forum/51-25…; http://35photo.ru/photos_series/57/57233.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.788 - И снова Нёнокса. Творчество северодвинского художника - Страница 13 - BernClub - все о зенненхундах (http://bernclub.ru/forum/51-25…; http://i039.radikal.ru/1105/85/3db74f7c8a2c.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.789 - Экспедиция в деревню Нёнокса Приморского района (http://old.philol.msu.ru/~dial…; http://ns2.philol.msu.ru/%7Edialectology/i/nionoksa/nionoksa2.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.790 - С высоты полёта Ненокса (Северодвинск) Фото Планета (http://photo.foto-planeta.com/view/4/0/8/nenoksa-40820.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.791 - Фото Севера - Форум Северодвинска. Конструкция 11/10, Нёнокса. Последние снимки (http://www.severodvinska.net/f…; http://s39.radikal.ru/i085/1106/ad/59dddd3e9b12t.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.792 - Открытие осенней охоты в 2005 г. или Здравствуй, Нёнокса! - Питерский Охотник, сайт об охоте (http://piterhunt.ru/images/foto/berdan/2005/2.jpg) (фото «Павел (Berdan)», 2005 г.) [79, фото].
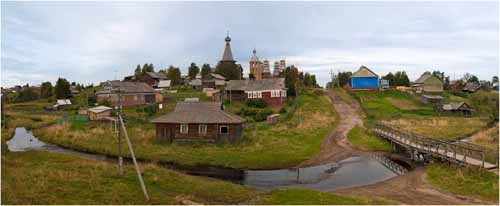
Рисунок 2.793 - Нёнокса. СКип - Профиль пользователя - фото.сайт - Photosight.ru (http://www.photosight.ru/users…; http://i.topic.lt/fotka/img/a/3f9/4762936_large.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.794 - Нёнокса, старинное северное русское село. PhotoArtCreation (http://www.fotose.com/upload/iblock/c18/c182fb991e3d7b6b26f9d90488ebd809.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.795 - Собаки Нёноксы. Фото Севера - Форум Северодвинска (http://www.severodvinska.net/; http://i.flamber.ru/files/st2/1162123695/1312633633_g.jpg) (фото «Alexey S. Ionov», 2011 г.) [79, фото].

Рисунок 2.796 - Нёнокса. Фото Севера - Форум Северодвинска (http://www.severodvinska.net/; http://s013.radikal.ru/i322/1208/4c/1c4962ec5359.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.797 - Деревянная пятикупольная церковь в Нёноксе. Москва - Архангельск - Сыктывкар - Москва. 21-29 марта 2009 года (http://www.aaa13.ru/Arkhangelsk_Syktyvkar_Mar_2008/nenoksa_1.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.798 - Отличные фотки. Mihail A. (http://kotoff-vasiliy.livejour…; http://sanatatur.ru/static_1/4/0/4001fb0179e92637801137aad628a18b.jpeg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.799 - Хронология строительства храмов России. 1720-е - 1730. Архангельская область. Ненокса, село. Церковь Троицы (http://www.temples.ru/private/f000450/450_0064454b.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.800 - Нёнокса. Вид на речку и Святую Гору (http://parnasse.ru/images/users/photos/medium/30e6e222254f4c6e802cca577c5d1c4c.jpg) (фото О. Карелина, 7 ноября 2012 года) [79, фото].

Рисунок 2.801 - Нёнокса, вид на Святую гору (http://parnasse.ru/images/users/photos/medium/80caf3580c36b935d17fc4de498775c7.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.802 - Нёнокса. Тишь да гладь, да Божья благодать (http://parnasse.ru/images/users/photos/medium/33b2939f467aa138c98a3afa8135f95a.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.803 - Нёнокса. R. Re: Может съездим куда-нибудь? (http://www.bikeangelsk.ru/foto/2010/nenoksa/12.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.804 - Нёнокса. R. Re: Может съездим куда-нибудь? (http://www.bikeangelsk.ru/foto/2010/nenoksa/14.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.805 - Нёнокса (http://wap.dvinainform.ru/2013…; http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=141900734-12-72&n=21) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.806 - Нёнокса (http://photoclub.by/work.php?i…; http://i.photocentra.ru/images/main28/280651_main.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.807 - Нёнокса (http://photoclub.by/work/27885…; http://ii.photocentra.ru/images/main27/278858_main.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.808 - Нёнокса (http://ilya-mix.livejournal.com; http://doggi.ru/forum/44-5165-…; http://cs10480.vk.com/u83635722/133913377/z_b5fd6ee8.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].

Рисунок 2.809 - Нёнокса (http://ilya-mix.livejournal.com; http://doggi.ru/forum/44-5165-…; http://cs10480.vk.com/u83635722/133913377/z_1cc14272.jpg) (автор и время съемки неизвестны) [79, фото].
Интерес также представляют сведения, опубликованные на портале «Православные святыни и святые в истории Архангельского Севера» [73]. В разделе «Северные селения, посады и города» имеется упоминание о «Неноксе - посаде и усолье».
«Первое упоминание о Неноксе историки обнаружили в Уставной грамоте великого московского князя Василия Дмитриевича (1397 г.). Здесь, на Летнем берегу Белого моря, вырос посад (вероятно, в XIII-XIV вв.); тогда же возникло усолье (т.е. место выварки соли). В Беломорье издавна строились соляные варницы, но самые ранние из них появились именно в Неноксе. Здешняя соль (так называемая «ключевка» – от соляных ключей) получила большой спрос и приносила казне огромные доходы. От торговли ненокской солью богатели посадские люди и монастыри.
В XVI-XVII вв. на Нёнекском посаде обосновались государственные таможенные и «кружечные» дворы. Значительная часть усолий принадлежала Антониево-Сийскому, Соловецкому, Кирилло-Белозерскому, Николо-Корельскому и Михайло-Архангельскому монастырям.
От доходов с продажи соли ненокшане-посажане строили храмы и часовни. Так, например, после опустошительного пожара 1725 г., в котором погибли три деревянные церкви и колокольня, местные плотники воздвигли огромный храмовый ансамбль, в который вошли деревянная Троицкая (1725-1730 гг.), Пятницкая (1738 г.), зимняя Никольская (1762 г.) церкви и колокольня (1834 г.). На Святой (Крестной) горе была возобновлена (1748 г.) кладбищенская церковь Святого Климента. Ненокшане верили, что с перенесением частичек мощей Св. Климента в Киев князем Владимиром Красное Солнышко началось строительство христианских храмов на Руси.
В настоящее время с. Нёнокса находится в административном подчинении мэрии города Северодвинска. В окрестностях села находится Центральный государственный научно-исследовательский испытательный полигон Военно-Морского флота Министерства обороны Российской Федерации (основан 11 ноября 1954 г.)» [13, с. 11, 43-44, 70, 75, 81, 86, 120-123; 73; 111].
В перспективе Ненокская групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.2.2 Пертоминско-Красногорская ГСНМ, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область.
Пертоминско-Красногорская групповая система населенных мет находится в северной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 40 км к северо-западу от районного центра - города Архангельска, а поселок Пертоминск - Пертоминский монастырь - Пертоминское - Петреминской является административным центром Пертоминской поселковой администрации.
Пертоминско-Красногорская ГСНМ состоит из поселка Пертоминск - Пертоминский монастырь - Пертоминское - Петреминской (1), расположенного на мысу Красногорский Рог в устье Унской губы Белого моря, на ее восточном берегу, и деревни Красная Гора - Красная Горка - Красногорская, находящейся на западном берегу озера Красногорское (Красное) (рисунки 2.1, 2.178, 2.810) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 12; 81, карты].
Необходимо отметить, что на период полевых работ Историко-архитектурной экспедиции Петрозаводского государственного университета 1987 года в деревне Красная Гора - Красная Горка - Красногорская насчитывалось 46 жилых домов, а в поселке Пертоминск - Пертоминский монастырь - Пертоминское - Петреминской сохранились руины Пертоминского Преображенского-Крестиморовского мужского заштатного монастыря на берегу Унской губы.
Сведения о поселении Пертоминское - Петреминской, а также о Красногорской волости и о поселении Красногорское содержатся, в частности, на портале «Старые карты Онежского уезда Архангельской губернии, границы уезда» (адрес - http://starye-karty.litera-ru.ru/uezd/arh_karta-onezhskiy_uezd.html) (рисунки 2.91-2.92, 2.218) [98, карты].
Сведения о поселке Пертоминск имеются также на портале ««Фото Планета. Фотографии городов, поселков, сел и деревень» («Foto-planeta.com») (адрес - http://foto-planeta.com/np/6564/pertominsk.html) [76]. «Пертоминск. Широта: 64°47'60'' Северной Широты. Долгота: 38°25'00'' Восточной Долготы. Высота над уровнем моря: 6 м. Поблизости: Лопшеньга, Унский Маяк, Уна, Верхнеозерский, Луда, Ненокса, Красная Гора, Сопка, Сюзьма». К приведенному описанию также представлена серия фотографий общего вида поселка и его окрестностей (рисунки 2.812-2.825) [76, фото].
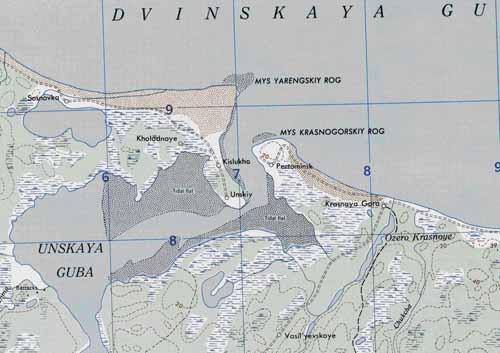
Рисунок 2.810 - Поселок Пертоминск (фрагмент карты «Eastern Europe 1:250000. Luda. Edition 2 - AMS. Refer to this map as: NQ 37, 38-13. Series N 501. 1954 (архивный номер - G 7010 S 250 U5 NQ 37,38-13 PCL MAP») (адрес - http://img.readtiger.com/wkp/ru/USSR_map_NQ_37-13_Luda.jpg) [81, карта].
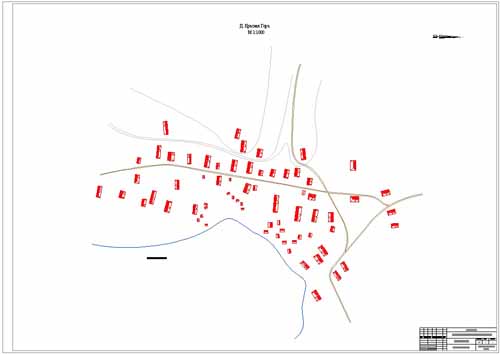
Рисунок 2.811 - Деревня Красная Гора - Красная Горка - Красногорская, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область.

Рисунок 2.812 - Закат. п. Пертоминск, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Rekhov Dmitry», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.813 - Вечер. п. Пертоминск, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Rekhov Dmitry», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.814 - Дорога. п. Пертоминск, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Rekhov Dmitry», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.815 - Река. п. Пертоминск, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Rekhov Dmitry», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.816 - Pertominsk village. п. Пертоминск, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Sergei Korsun», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.817 - Local fishery. п. Пертоминск, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Sergei Korsun», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.818 - Low tide in Unskaya Bay. п. Пертоминск, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Sergei Korsun», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.819 - Pertominsk village. п. Пертоминск, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Sergei Korsun», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.820 - Pertominsk village. п. Пертоминск, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Sergei Korsun», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.821 - Pertominsk village. п. Пертоминск, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Sergei Korsun», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.822 - Руины Пертоминского Преображенского-Крестиморовского мужского заштатного монастыря на берегу Унской губы в с. Пертоминск / Former monastery on the Unskaya bay (Pertominsk) (фото «Igor Studenov», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.823 - Сосновый бор в с. Пертоминск / Pine forest in the Pertominsk village (фото «Igor Studenov», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.824 - Pertominsk pear (фото «Otmorozen», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.825 - Пертоминск (фото «Nordvinsk», дата съемки неизвестна) [76, фото].
Интерес также представляет информация, содержащаяся на портале «Karaed.ru» [78]. «Мы же, добравшись до Унской Губы увидели в бинокль на том берегу Пертоминск - довольно приличных размеров поселок с магазинами, системами связи и прочими благами цивилизации. Там, у пристани, пришвартован паром!» [78].
Информация о поселке Пертоминск содержится также в сообщении И. Балабанова «На поморской земле», опубликованном в газете «Вольный ветер» в октябре 2000 года и воспроизведенном на туристическом портале «Куда.ua» («Rest.kuda») (адрес - http://rest.kuda.ua/544) [10; 103]. «К Онежскому полуострову, что в Архангельской области, я присматривался давно: очень хотелось обойти этот кусочек северной земли, который заманчиво «высунулся» из материка в Белое море. В марте этого года мечту удалось осуществить. Команда, состоящая из пятерых москвичей-горников (Сергей Адамов, Дмитрий Брусков, Владимир Мухин, Владимир Шиповский и автор этих строк), подобралась на удивление быстро. У троих из нас кое-какой опыт лыжных путешествий имелся, двое были лыжниками-новичками. Но это не помешало всем пройти за 14 дней 350 км вокруг полуострова. Похоже, мы первыми проделали такой путь зимой на лыжах (во всяком случае, ни в Москве, ни в Северодвинске, ни в сёлах на маршруте подтверждений прохождения ранее его мы не нашли).
По занесенному зимнику до пос. Пертоминск - 10 км. …Некогда оживленный Пертоминск (в нем было более тысячи жителей), имевший свой рыбзавод, заметно опустел: работы не стало. Когда нас пригласили попить чай, то рекомендовали вещи внести в избу - на всякий случай. Удивляет щедрость и радушие местных жителей: к столу подали козье молоко, чай со свежим хлебом, соления, в дорогу положили пакет с навагой (здесь ее ласково называют «наважка»). В поселке - магазин, причал, остатки монастыря прошлого века: сторожевые башни, двухэтажные строения из красного кирпича, давно обжитые местным населением» [10; 103].
Дополнительные сведения о деревне Красная Гора содержатся на портале «Фото Планета. Фотографии городов, поселков, сел и деревень» («Foto-planeta.com/region/») [76]. «Красная Гора. Широта: 64°46'00'' Северной Широты. Долгота: 38°37'00'' Восточной Долготы. Высота над уровнем моря: 10 м. Поблизости: Жижгин, Кремль (о. Соловецкий), Летний Наволок, Летняя Золотица, Лопшеньга, Пертоминск, Унский Маяк, Яреньга, Уна, Верхнеозерский, Луда, Ненокса, Сопка, Сюзьма» (рисунки 2.826-2.832) [76, фото].

Рисунок 2.826 - Деревня Красная Гора - Красная Горка - Красногорская, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Pshenson», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.827 - Деревня Красная Гора - Красная Горка - Красногорская, озеро Красное. Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Pshenson», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.828 - Деревня Красная Гора - Красная Горка - Красногорская, старый маяк. Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Pshenson», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.829 - Деревня Красная Гора - Красная Горка - Красногорская, vост через р. Чукча. Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Pshenson», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.830 - Krasnaya Gora (=Red Cliff) village. Деревня Красная Гора - Красная Горка - Красногорская, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Sergei Korsun», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.831 - Деревня Красная Гора - Красная Горка - Красногорская, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Rekhov Dmitry», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.832 - Calm White Sea. Деревня Красная Гора - Красная Горка - Красногорская, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Onmorozen», дата съемки неизвестна) [76, фото].
Информация о деревне Красная Гора содержится также в сообщении И. Балабанова «На поморской земле», опубликованном в газете «Вольный ветер» в октябре 2000 года и воспроизведенном на туристическом портале «Куда.ua» («Rest.kuda») (адрес - http://rest.kuda.ua/544) [10; 103]. «К Онежскому полуострову, что в Архангельской области, я присматривался давно: очень хотелось обойти этот кусочек северной земли, который заманчиво «высунулся» из материка в Белое море. В марте этого года мечту удалось осуществить. Команда, состоящая из пятерых москвичей-горников (Сергей Адамов, Дмитрий Брусков, Владимир Мухин, Владимир Шиповский и автор этих строк), подобралась на удивление быстро. У троих из нас кое-какой опыт лыжных путешествий имелся, двое были лыжниками-новичками. Но это не помешало всем пройти за 14 дней 350 км вокруг полуострова. Похоже, мы первыми проделали такой путь зимой на лыжах (во всяком случае, ни в Москве, ни в Северодвинске, ни в сёлах на маршруте подтверждений прохождения ранее его мы не нашли).
Транспортное сообщение на полуострове плохое. … На «километровке» между многими сёлами показаны грунтовки, на самом деле их нет: в последние годы число жителей уменьшилось, ездить стали меньше и просеки заросли. Остались дороги Пертоминск - Красная Гора и Яреньга - Лопшеньга. Для разъездов и перевозки грузов местные жители используют лошадей, некоторые сельчане держат по несколько животных. Популярны «Бураны», но они дорого стоят и для многих недоступны.
Летом передвигаются преимущественно по морю. Распространён недешёвый частный извоз на катерах. Из Онеги и Северодвинска изредка ходят корабли. Причалы есть не везде: лайды (прибрежные мели) не дают кораблям подойти к берегу. В таких случаях судно встаёт на рейд, а пассажиров к сёлам перевозят на лодках. Особенно много мелей на Онежском берегу (от устья р. Онега на юге до мыса Ухтнаволок на севере).
Село Красная Гора расположено на берегу озера Красное. Ориентиром с моря служит 10-метровый деревянный маяк. Местные жители говорят, что, когда Петр I проплывал мимо села, его приветствовали с холма женщины в красных сарафанах, отсюда и пошло название. Домов в селе много, но зимой обитаемы лишь несколько, есть движок, вырабатывающий электричество. Увидев в одной избе огонёк, просимся переночевать» [10; 103].
В перспективе Пертоминско-Красногорская групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
2.2.3 Уно-Лудская ГСНМ, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область.
Уно-Лудская групповая система населенных мест находится в северной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 76 км к северо-западу от районного центра - города Архангельска и на расстоянии 36 км к западу от поселка Пертоминск - Пертоминский монастырь - Пертоминское - Петреминской - административного центра Пертоминской поселковой администрации.
Уно-Лудская ГСНМ состоит из деревни Уна - с. Уна - Унский Посад - Унской Посад (1), находящейся на правом (восточном) берегу реки Уны, и деревни Луда - Лудский Посад (2), расположенной по обоим берегам реки Луды и на северном берегу Унской губы Белого моря (рисунки 2.1, 2.80, 2.81, 2.178, 2. 833-2.834) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 12; 75, карты; 81, карты]. На период полевых работ Историко-архитектурной экспедиции Петрозаводского государственного университета 1987 года в деревне Луда - Лудский Посад насчитывалось 73 жилых дома.
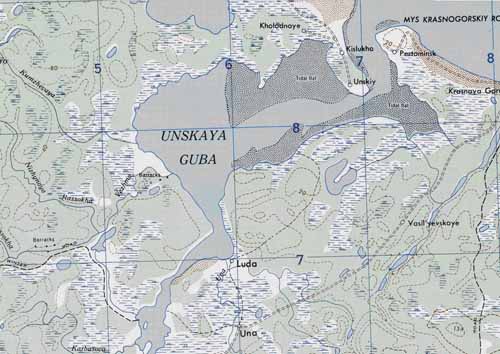
Рисунок 2.833 - Деревня Луда (фрагмент карты «Eastern Europe 1:250000. Luda. Edition 2 - AMS. Refer to this map as: NQ 37, 38-13. Series N 501. 1954 (архивный номер - G 7010 S 250 U5 NQ 37,38-13 PCL MAP») (адрес - http://img.readtiger.com/wkp/ru/USSR_map_NQ_37-13_Luda.jpg) [81, карта].
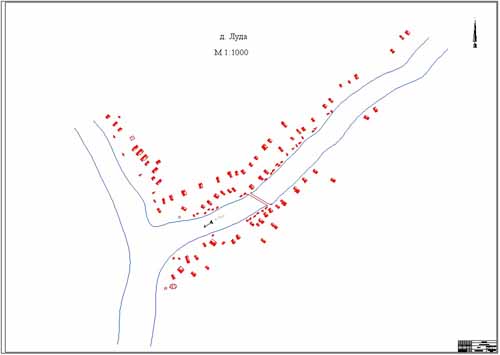
Рисунок 2.834 - Деревня Луда - Лудский Посад, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область.
Архитектурно-типологическое описание планировки и застройки Уно-Лудской ГСНМ, содержащееся в формуле «К1/1(1)(01.2), ПК1/1, Т1/1, ПТ1, В4/_(4):[В2/1(1)+В3/1(3)], ПВ2/2(1)(01.1)(02.2)(03.1), Р1», приведено в приложении А и в таблице Б.1.
Сведения об Унской волости и о поселении Унский Посад - Унской Посад, а также о Лудской волости и о поселении Лудский Посад - Лудской Посад содержатся, в частности, на портале «Старые карты Онежского уезда Архангельской губернии, границы уезда» (адрес - http://starye-karty.litera-ru.ru/uezd/arh_karta-onezhskiy_uezd.html) (рисунки 2.91-2.92, 2.218) [98, карты].
Дополнить приведенную характеристику Уно-Лудской ГСНМ позволяют сведения, приведенные в статье архитектора П.П. Медведева «Принципы и приемы архитектурно-пространственной организации жилой среды сельских поселений Беломорского Поморья» [45]. «По соотношению между месторасположением архитектурных доминант и ориентацией на них жилой застройки поселений во второй и третьей типологических подгруппах выделяются четыре варианта (см. рис. 1). Применительно к типологической подгруппе «б» первый вариант отмечен в наиболее старых поморских поселениях. К их числу относятся: посад Уна (Приморский район Архангельской области) с Климентовской церковью, построенной, вероятно, в 1501 году (примечание 15 - См. комментарии Т.П. Каждан к книге И.Э. Грабаря (Грабарь И.Э. О русской архитектуре. Исследования. Охрана памятников - М.: Наука, 1969. - с. 403, прим. 23)), и село Кандалакша (территория Кандалакшского горсовета Мурманской области), на окраине которого в прошлом был расположен Кокуев монастырь, упоминаемый в документах под 1526 г. (примечание 16 - Реконструкция генплана села Кандалакши см.: Ушаков Ю.С. Ансамбль в народном зодчестве Русского Севера: Пространственная организация, композиционные приемы, восприятие - Л.: Стройиздат, 1982. - с. 58, рис. 23). В обоих случаях архитектурные доминанты были расположены на зрительном завершении главных композиционных осей, роль которых выполняли реки» (рисунок 2.835) [45, с. 147-150, рис. 1].
Дополнительные сведения о деревне Уна имеются в статье архитектора-реставратора В.А. Крохина «Возведение шатровых покрытий в деревянном зодчестве русского севера» [37]. «Общеизвестно, что шатровые покрытия каменных храмов, как правило, не имеют потолочных перекрытий, отделяющих внутреннее пространство шатра от остального помещения. Это, безусловно, способствует более выразительному художественному облику интерьера, создает впечатление его единства. Тем не менее, промежуточный потолок является непременной принадлежностью деревянных шатровых церквей.
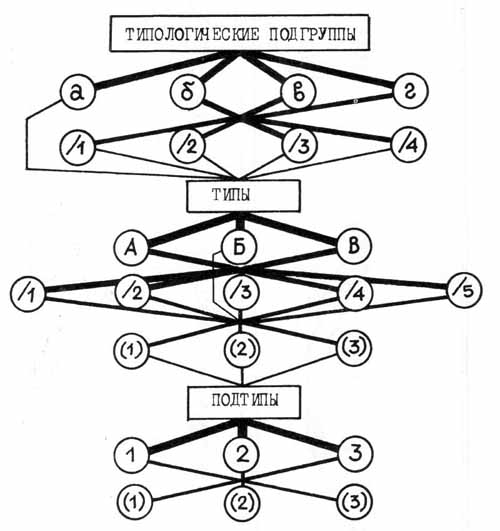
Рисунок 2.835 - Схема классификационной системы объемно-планировочных структур сельских поселений: Типологические подгруппы: а - нейтральные, б - периферийно-акцентированные, в - центрично-акцентированные, г - смешанно-акцентированные (1 - с расположением акцентов в направлении главной композиционной оси поселения или на зрительном завершении главной улицы, 2 - с размещением акцентов перед фронтом домов, 3 - с размещением акцентов позади домов, 4 - с размещением акцентов в ряд с домами). Типы (относительно внешнего зрительного восприятия): А - с открытой композицией, Б - с замкнутой композицией, В - со смешанной композицией (1 - центричные с круговым восприятием, 2 - с полукруговым восприятием, 3 - с линейным восприятием, 4 - с фронтальным восприятием, 5 - со смешанным восприятием; (1) - статичные, (2) - динамичные, (3) - смешанные. Подтипы (относительно внутреннего зрительного восприятия): 1 - с открытой композицией, 2 - с замкнутой композицией, 3 - со смешанной композицией; (1) - статичные, (2) - динамичные, (3) - смешанные [45, с. 147, рис. 1].
Итак, каменные шатровые храмы имеют шатры, открытые внутрь. А почему нет подобных шатров в деревянных храмах? Это различие не раз привлекало внимание исследователей. Попробуем дать ответ на этот вопрос.
Отдельные исследователи древнерусского деревянного зодчества утверждают, что в XVI-XVII вв. все же существовал прием сплошной рубки шатров деревянных культовых сооружений, и открытые внутрь шатры не отделялись потолком от остального помещения церкви (прим. 1 - Агафонов С. К вопросу об открытых внутрь шатрах в русском деревянном зодчестве. - Архитектурное наследство. Т. 2. М., 1952, с. 187 [1, с. 187]). К числу таких сооружений относят церковь Выйского погоста (1600 г.). Причем утверждается, что низкий потолок церкви является лишь позднейшим. До его устройства храм будто бы имел открытый внутрь бревенчатый шатер сплошной рубки (прим. 2 - Доклад Барановского П.Д. в Московском Архитектурном обществе в 1922 г. (сообщено Максимовым П.Н. в 1970 г.). В качестве другого примера указывается на церковь в селе Уна (XVII в.). К числу сооружений, имеющих сплошную рубку шатра, также относят Никольскую церковь в селе Панилово (1600 г.).
В настоящее время все указанные памятники утрачены, и проверить правильность этих утверждений невозможно» [37, с. 65].
Упоминание о селе Уна имеется также в работе историка-языковеда И.А. Елизаровского «Язык беломорских актов XVI-XVII вв.» (1958 г.), представленной на портале «BVSV.livejournal.com» 27 января 2012 года в разделе «Вопросы к истории», «Население Северного Поморья в древности» [85].
«В XIII-XV вв. новгородская колонизация Северного поморья усиленно продолжалась. История сооружения христианских храмов убедительно показывает, что в это время только на участке Северной Двины, от устья Емцы до впадения Двины в море, примерно, на расстоянии 180 километров, накопилось настолько значительное крестьянское население, что оно могло построить в 20 поселках храмы и содержать церковный клир. В частности, «Двинские грамоты XV в.» упоминают церкви в Усть-Емце, Ступине, Ровдине, Матигорах, Курострове, Холмогорах, Залывье, Чухченеме, Ухтострове, Прилуках, Лявле, Курье, Княжестрове, Лисестрове, Заостровье, Вознесенье, Кехте, Лодме, Бревеннике, Пурнаволоке (1). Тогда же возникли храмы и, следовательно, значительные селения и на берегах Белого моря: в Солзе, Неноксе, Уне, Пурнеме, Яреньге, Лямце, Поньгаме, Колежме, Шуе, Сороке, Суме, Ковде» [85].
Интерес также представляют сведения, опубликованные на портале «Деревянное зодчество» («M-der.ru») [67]. В разделе «Русское деревянное зодчество: Культовые постройки: Шатровые церкви» сообщается, что «по композиционному решению шатровые храмы можно разделить на семь типов… Шестой тип «восьмерик на четверике с четырьмя симметричными прирубами» или «церкви с крестчатыми срубами». Обычно сруб опоясывала с одной или трех сторон галерея. Это Успенская церковь Александро-Кушерского монастыря, Климентовская церковь из села Уна, Никольская церковь села Шуерецкого, Вознесенская церковь в селе Пияле, Ильинская церковь села Вазенцы, Успенская церковь в селе Варзуга.
Дополнить приведенную выше характеристику позволяют также сведения, опубликованные на портале «Наш край» («Nashkraysev.ru») в разделе «Архангельские земли: История и культура Русского Севера» и в подразделе «Поселения и архитектура» [71]. «На приморском побережье и в приустьевых частях рек расположены старинные поморские поселения, многие из которых насчитывают сотни лет. Здесь сохранилось множество старинных построек, представляющих традиционную архитектуру Поморья. Особое место среди них занимают культовые сооружения.
На Севере храмы чаще всего ставились не среди жилых строений, как это было принято в других местностях России, а несколько в стороне от деревни, обычно на возвышенных местах. Рядом с храмами располагались кладбища. В некоторых деревнях в более позднее время кладбища были перенесены на новые места.
Основным типом храма является шатровая церковь с примыкающей к ней с запада низкой трапезной частью. Этот тип храма начал широко распространятся в XVII веке и стал господствующим в русских деревнях и селах в последующие столетия. К этому типу зданий принадлежат дошедшие до нашего времени старинные храмы в Пурнеме, Кянде, Никольская церковь в Неноксе и ряд более поздних храмов, возведенных в прошлом и начале нынешнего века…
Церковь Климента в Уне имела крещатый план, окруженный с трех сторон галереей. Выступы сруба перекрывались двойными бочками, которые завершались небольшими главками. Центральная часть храма венчалась высоким рубленым шатром. Уравновешенная центрическая композиция, изысканные пропорции ставят этот памятник архитектуры в один ряд с лучшими шатровыми храмами русской архитектуры. Церковь сгорела еще в дореволюционное время, но благодаря обмерам и фотографиям В.В.Суслова хорошо известна, о ней упоминается почти во всех монографиях, посвященных русской деревянной архитектуре. На окраине деревни Уна сохраняются остатки фундаментов сгоревшего храма» (рисунок 2.836) [71, фото].
Сведения о деревне Уна содержатся также на портале«Фото Планета. Фотографии городов, поселков, сел и деревень» («Foto-planeta.com/region/») [76]. «Широта: 64°37'00'' Северной Широты. Долгота: 38°10'00'' Восточной Долготы. Высота над уровнем моря: 6 м. Поблизости: Пертоминск, Унский Маяк, Яреньга, Нижмозеро, Верхнеозерский, Пурнема, Луда, Кянда, Красная Гора, Сюзьма». К приведенной информации представлена фотография общего фида деревни, выполненная анонимным автором под псевдонимом «Sergerosa» (рисунок 2.837) [76, фото].

Рисунок 2.836 - Церковь Климента в Уне [71, фото].

Рисунок 2.837 - В деревне Уна, вид на болото за деревней. Деревня Уна, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Sergerosa», дата съемки неизвестна) [76, фото].
Сведения о деревне Луда содержатся также на портале «Фото Планета. Фотографии городов, поселков, сел и деревень» («Foto-planeta.com/region/») ч приложением серии фотографии различных автором (рисунки 2.838-2.851) [99, фото]. «Широта: 64°39'00'' Северной Широты. Долгота: 38°10'00'' Восточной Долготы. Высота над уровнем моря: 5 м. Поблизости: Лопшеньга, Пертоминск, Унский Маяк, Яреньга, Уна, Нижмозеро, Верхнеозерский, Кянда, Красная Гора, Сюзьма» [99].

Рисунок 2.838 - Закат луда. Деревня Луда - Лудский Посад, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Mishany223», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.839 - The Salty source (coast-dwellers boilled the salt a long time ago). Деревня Луда - Лудский Посад, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Miha18», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.840 - Правый берег. Деревня Луда - Лудский Посад, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Miha18», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.841 - The village Luda. Деревня Луда - Лудский Посад, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Miha18», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 3.842 - Церковь в Луде. Деревня Луда - Лудский Посад, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото С. Баранова «Sergei Baranov», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.843 - It's ruinous church (Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Луде. Построена в 1862 г.). Деревня Луда - Лудский Посад, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Miha18», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.844 - Деревня Луда - Лудский Посад, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Sparker-qeo», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.845 - «Апельсин». Деревня Луда - Лудский Посад, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Nordvinsk», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.846 - Луда. Деревня Луда - Лудский Посад, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Nordvinsk», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.847 - Деревня Луда - Лудский Посад, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Nordvinsk», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.848 - Церковь в Луде. Деревня Луда - Лудский Посад, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Mishany223», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.849 - Пристань п. Луда. Деревня Луда - Лудский Посад, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Aleksandr-K», дата съемки неизвестна) [76, фото].

Рисунок 2.850 - Церковь п. Луда. Деревня Луда - Лудский Посад, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область (фото «Aleksandr-K», дата съемки неизвестна) [76, фото].
Дополнительные сведения о деревне Луда можно найти на портале «Karaed.ru» в публикации под заглавием «Экспедиция «Белое Море». Путешествие вокруг Онежского полуострова. Май, август 2008 г.» (адрес - http://www.karaed.ru/Expedition_WhiteSea/) [80]. «Оказалось, от Пертоминска на Луду нет нормальной дороги - есть гать через болота сразу на Уну, около 30 км… Как мы плыли к Луде - это целая история. Наш паромчик в абсолютной темноте (на пароме нет ни одной работающей лампочки) несколько раз налетал на мель, у нас глох и перегревался старенький дизель. Система охлаждения почти полностью забилась илом... Короче было весело. В начале четвертого ночи мы выгрузились на пристань Луды» [80].
Сведения о деревне Луда содержатся также на портале «Наш Край» («Nashkraysev.ru») [71]. В разделе «Поселения и архитектура» сообщается, что «другие деревни (помимо села Пурнема - П.П. Медведев) не менее интересны в архитектурном отношении: многочисленные дома - пяти- и шестистенки в Лопшеньге, Уне, старинные кладбища с редкими надгробиями в Летней Золотице, Летнем Наволоке, Яренге, церковь 1862 г. в д. Луда. Внешний вид селений Поморья, производил впечатление чистоты и зажиточности и, тем самым, резко отличался, по мнению многих путешественников, от деревень средней России. Во многом эти селения сохранили свой внешний облик до наших дней. Наиболее полно архаичные черты сохранили промысловые избы, бани, амбары» [71].
В перспективе Уно-Лудская групповая система населенных мест может стать составным элементом как регионального, так и международного туристических маршрутов по территории Архангельского Поонежья (см. п. 2.1.1).
Заключение
За период 2013 года исполнителями проекта была выполнена камеральная обработка части натурных материалов по памятникам народного зодчества, собранных историко-архитектурными экспедициями ПетрГУ в 1982-1987 годах на территории Северного Поонежья (Онежского и Приморского районов Архангельской области). На основании результатов разведочного анализа памятников народного зодчества Северного Поонежья и сравнения их с аналогичными архитектурно-пространственными системами и объектами смежных историко-архитектурных субрегионов Примошья, Каргополья, Южного Поонежья, Восточного Обонежья, западного и Восточного Поважья был подготовлен список объектов, представляющих историко-архитектурную ценность и рекомендованных для включения в состав Web-страницы.
В их число вошли 17 групповых систем населенных мест (поселенческих кластеров) и 67 традиционных сельских поселений. С использованием архитектурно-типологических кодификаторов было подготовлено 157 текстовых файлов с расширением *.doc и 125 файлов расширения *.txt общим объемом 369,17 Мб, содержащих архитектурно-типологические описания отдельных памятников архитектуры. На базе графического пакета AutoCAD-2004-2006 подготовлено 42 графических файла с расширением *.dwg общим объемом 7,71 Мб с изображениями генпланов сельских поселений для их последующей конвертации в файлы расширения *.jpg.
С использованием языка гипертекстовой разметки HTML был подготовлен рабочий вариант Web-страницы по памятникам архитектуры Северного Поонежья, включающей 15 тематических разделов: 1) введение; 2) субрегиональная система расселения; 3) групповые системы населенных мест (поселенческие кластеры); 4) историко-архитектурные комплексы (исторические поселения, архитектурно-ландшафтные комплексы и некрополи); 5) крестьянские усадьбы; 6) жилые дома; 7) хозяйственные постройки и сооружения; 8) культовые постройки и сооружения; 9) прочие постройки и сооружения; 10) функционально-конструктивные и архитектурно-декоративные элементы и детали; 11) мебель, бытовая утварь и плотницкие инструменты; 12) карты; 13) библиография, 14) примечания и 15) тезисы НИР студентов кафедры САПР ПетрГУ.
В итоге общий объем рабочей версии Web-страницы составил 6174 файла различного расширения общим объемом 289,80 Мб.
Список использованных источников
1. Агафонов С. К вопросу об открытых внутрь шатрах в русском деревянном зодчестве // Архитектурное наследство. - Т. 2. - М., 1952. - С. 180-187.
2. Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках: Справочник / Адм. Арханг. обл. Архив. отд.; ГААО; [сост.: Л.В. Гундакова, Л.Н. Хоушкая, Н.А. Шумилов]. - Архангельск: Правда Севера, 1997. - 414 с.
3. Алферова Г.В. Каргополь и Каргополье / Центр. науч.-исслед. ин-т теории и истории архитектуры. - М.: Стройиздат, 1973. - 190 с.: ил.
4. Архангельская область. Административно-территориальное деление Архангельской области РСФСР: По состоянию на март 1983 г. - М.: Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1983. - 1 л.
5. Архангельская область. Административно-территориальное деление (По состоянию на 1 января 1984 года). - Архангельск: Сев-Зап. кн. изд-во, 1984. - 174 с.
6. Архангельская область. Масштаб 1:1500000. Карта составлена и подготовлена к печати фабрикой № 5 в 1986 г. - М.: ГУГК при Совете Министров СССР, 1987. - 1 л.
7. Архангельская область, Ненецкий автономный округ. Дорожный атлас: Топографическая основа, автосервис, схемы транспортных узлов, дорожные знаки / Федеральная служба геодезии и картографии России. Автодорожные атласы России. Атлас составлен и подготовлен к изданию ФГУП «Аэрогеодезия» в 2003 г. - СПб.: ФГУП «Аэрогеодезия», 2004. - 72 с.: карты, схемы.
8. Архангельская область, Ненецкий автономный округ. Топографическая карта. Масштаб 1:1000000 / Карты административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации. Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральное агенство геодезии и картографии. Карта составлена и подготовлена к изданию Федеральным Государственным Унитарным Предприятием «Аэрогеодезия» в 2005 г. - СПб.: ФГУП «Аэрогеодезия», 2005. - 1 л.+ 21 с. (Указатель географических названий).
9. Архангельский областной архив. Опись имущества церквей Ненокоцкого прихода Архангельского уезда за 1842 год. Фонд № 29, оп. 31, Ед. хр. 429.
10. Балабанов И. На поморской земле // Вольный ветер. - № 45. - 10. - 2000.
11. Бартенев И.А., Федоров В.Н. Архитектурные памятники Русского Севера. – М.-Л.: Искусство, 1968. - 259 с., ил.
12. Бережная Дуброва на карте России [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://sobory.ru/, свободный. - Загл. с экрана. - Я з.рус.
13. Бернштам Т.А. Поморы. Формирование группы и системы хозяйства / Под ред. Е.В. Чистова; АН СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. - Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1978. - 175 с.: ил. + карт.
14. Голубцов Н.А. Список населенных мест Архангельской губернии к 1905 году / сост. секретарем губерн. стат. ком. Н.А. Голубцов. - Архангельск: Изд. Арханг. губерн. стат. ком., 1907. - [12], 216, ХII с.: ил.
15. Государственный архив Архангельской области (ГААО), фонд 463, опись 1, д. 34, 1883 г. Опись имуществ и угодий церкви Кяндскаго прихода за 1833 год.
16. Грабарь И.Э. История русского искусства. Т. 1. Деревянное зодчество. М.: Кнебель, 1910. - 508 с.
17. Грабарь И.Э. История русского искусства [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://Грабарь И.Э. История русского искусства\Books\Grabar\, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
18. Грабарь И.Э. О русской архитектуре. Исследования. Охрана памятников. - М.: Наука, 1969. - 423 с.
19. Грабарь И.Э., Горностаев Ф.Ф. Главные типы великорусского деревянного храма [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://www.portal-slovo.ru/art/35834.php?ELEMENT_ID=35834&PAGEN_2=3, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
20. Гунн Г.П. Каргополье - Онега / Ред. И.А. Куратова. - М.: Искусство, 1974. - 143 с., ил.
21. Гунн Г.П. Каргополье - Онега / Ред. И.А. Куратова. - М.: Искусство: 1989. - 167 с.: ил.
22. Гунн Г.П. Каргопольский озерный край / Ред. И.А. Куратова. - М.: Искусство, 1984. - 183 с.: ил.
23. Гунн Г.П. Онега впадает в Белое море. - М.: Искусство, 1968. - 134 с.: ил. ([Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/un2005/un_gunn.htm, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
24. Дементьев А. Отчет о походе по Прионежью и Поморскому берегу Белого моря (Архангельская область) [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://foto-planeta.com/np/36119/yarnema.html, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
25. Дерягин Г.Б. Окрестности Онеги [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://www.sudmed-nsmu.narod.ru/region/okronegi.html, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
26. Дерягин Г.Б. Поморские села Пурнема и Лямца» [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://www.sudmed-nsmu.narod.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
27. Дерягин Г.Б., Харлин Л.А. Старая Онега. Исторический путеводитель [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://readtiger.com/www/sudmed-nsmu.narod.ru/redion/onegaold.html, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
28. Забелло С.Я., Иванов В.Н., Максимов П.Н. Русское деревянное зодчество. - М.: Изд-во Академии архитектуры СССР, 1942. - 74 с., 212 с.
29. Известия Императорской археологической комиссии. Т. 41. - Спб., 1914. - 84 с.
30. Иконников А.В., Степанов Г.П. Основы архитектурной композиции - М.: Искусство, 1971. - с. 20
31. Калинин Г.Д. Онега. - Архангельск, 1982.
32. Кибирев В. Деревянное зодчество // Памятники Архангельского Севера. - Архангельск: Сев.-зап. кн. изд-во, 1983.
33. Кольцова Т.М. Иконы Северного Поонежья: Монография. - М., Изд-во «Северный паломник», 2005. - 352 с.: ил.
34. Кошелев Я. В память отражения неприятеля // Памятники Архангельского Севера. - Архангельск, Сев.-зап. кн. изд-во, 1983.
35. Красовский М. Курс истории русской архитектуры. Ч. 1. Деревянное зодчество. - Пг.: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1916. - 406 с.
36. Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии / Архангельский епархиальный церковно-археологический комитет. Вып.3. Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. - Архангельск: Типо-литография наследников Д. Горяйнова, 1896. - 267с.
37. Крохин В.А. Возведение шатровых покрытий в деревянном зодчестве русского севера // Архитектурное наследие и реставрация (реставрация памятников истории и культуры России): Сб. науч. тр. Вып. 2 / Под общ. ред. заслуженного деятеля искусств РСФСР В.М. Дворяшина. - М., 1986. - С. 65-75, ил.
38. Крохин В.А. Реставрация Вознесенской церкви в селе Кушерека Архангельской области // Архитектурное наследие и реставрация (Реставрация памятников истории и культуры России): Сб. науч. тр. Вып. 3 / Под общ. ред. заслуженного деятеля искусств РСФСР В.М. Дворяшина. - М., 1988. - С. 59-70, ил.
39. Крохин В.А. Системы построения формы в древнерусском деревянном зодчестве XVI-XVII веков // Вопросы охраны, реставрации и пропаганды памятников истории и культуры. Вып. IV. [НИИ культуры. Труды 35]. - М., 1976. - С. 112-118
40. Крысанов А.А. Поморские промыслы (Онежский уезд 1861-1916 гг.). - Онега, 2000.
41. Крысанов А.А. Тресковый промысел онежан на Мурмане (1850-1920 годы). - Онега, 2002.
42. Лукичева И. «Прошлое и настоящее села Порог» // МОУ ДОД «Центр дополнительного образования», т/о «Фантазеры», руководитель Сидорова Н.С., г. Онега. 2008 год.
43. Максимов С.В. Год на Севере. – СПб., 1997.
44. Медведев П.П. Деревянное гражданское зодчество Беломорского Поморья (опыт системного анализа с применением ЭВМ). Т.1.: Дис. … канд. архитектуры: 18.00.01 / МАрхИ. Защищена 15.05.86; Утв. 12.11.86; АХ № 000835. - Петрозаводск, 1985. - 295 c.
45. Медведев П.П. Деревянное гражданское зодчество Беломорского Поморья (опыт системного анализа с применением ЭВМ). Т.2 (Приложения). - Петрозаводск / ПГУ, 1985. Дис. на соиск. учен. степени кандидата архитектуры. - 311 с.: ил.
46. Медведев П.П. Некоторые особенности объемно-планировочных структур сельских поселений Беломорского Поморья // Архитектурное наследие и реставрация (Реставрация памятников истории и культуры России): Сб. науч. тр. Вып. 2 / Под общ. ред. заслуженного деятеля искусств РСФСР В.М. Дворяшина. - М., 1986. - С. 157-171, ил.
47. Медведев П.П. Принципы и приемы архитектурно-пространственной организации жилой среды сельских поселений Беломорского Поморья // Архитектурное наследие и реставрация (Реставрация памятников истории и культуры России): Сб. науч. тр. Вып. 3 / Под общ. ред. заслуженного деятеля искусств РСФСР В.М. Дворяшина. - М., 1988. - С. 145-163, ил.
48. Медведев П.П. Система расселения и объемно-планировочные структуры сельских поселений в бассейне реки Онеги (опыт ареального исследования) // Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского Севера: Межвуз. сб. - Петрозаводск, 1989. - С. 67-84, ил.
49. Мельник Т. История ворзогорских фамилий. К 200-летнему юбилею поголовного обретения ворзогорами фамилий. К Всероссийской переписи 2010 года // Онега. - 31 марта 2011 г.
50. Мильчик М.И., Ушаков Ю.С. Деревянная архитектура русского Севера. Страницы истории. - Л.: Стройиздат, 1981. - 128 с., ил.
51. Мулло И.М.. Памятники и памятные места Карелии. Петрозаводск, 1963.
52. Некрасова Е. Там, где семужка живет // Онега. - 5 апреля 2011 г.
53. Несколько слов о древней Николаевской церкви в Нижмозерском селении Онежскаго уезда // Архангельские Епархиальные Ведомости. - 1890 г. - № 21. - С. 297-301.
54. Носков П.И. Что временем сокрыто // Советская Онега - № 100 от 20.08.1983 г.
55. Общегеографический региональный атлас «Архангельская область. Ненецкий автономный округ». - Изд-е 1-е, 2006 г. - М: ФГУП «439 ЦЭВКФ» МО РФ, 2006. - 95 с.
56. Огурцов Ю. По следам Г.П. Гунна (путевые заметки Юрия Огурцова) [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://kenozerje.by.ru/nordnotes.htm, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
57. Онега. СССР. РСФСР. Р-37-А,Б. М 1:500000 / Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. Карта составлена в 1977 г. Состояние местности на 1982-86 гг. Исправлена и подготовлена к изданию в 1990 г. ПО «Сев.-Зап. Аэрогеодезия» ГУГК СССР. 192102, г. Ленинград, ул. Бухарестская, 6. Редактор Т.А. Мартынова. Технический редактор В.Т. Викторов. Подписана к печати 16.01.91 г. - Л.: ГУГК при Совете Министров СССР, 1991. - 1 л.
58. Онега. СССР. РСФСР. Р-37- I-II. М 1:500000 / Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. Карта составлена в 1977 г. Состояние местности на 1982-86 гг. Исправлена и подготовлена к изданию в 1990 г. ПО «Сев.-Зап. Аэрогеодезия» ГУГК СССР. 192102, г. Ленинград, ул. Бухарестская, 6. Редактор Т.А. Мартынова. Технический редактор В.Т. Викторов. Подписана к печати 16.01.91 г. - Л.: ГУГК при Совете Министров СССР, 1991. - 1 л.
59. Онежский уезд Архангельской губернии. Википедия - свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://ru.wikipedia.org/wiki/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
60: Онежский район Архангельской области. [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://mafia.tele2.ru/app/wiki/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
61. Орфинский В.П. Метод кодирования в изучении памятников деревянного зодчества русского Севера/Карельский ЦНТИ, Информ. листок № 11. - Петрозаводск, 1977.
62. Отчет о велосипедном туристском путешествии V категории сложности по Кольскому полуострову и Архангельской области, совершенном с 29 июля по 22 августа 1992 г. Ленинградский Областной Совет по туризму и экскурсиям. Санкт-Петербургский городской клуб туристов [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://www.tourism.ru/docs/report/cycle/7/6/438/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
63. Пилявский В.И., Тиц А.А., Ушаков Ю.С. История русской архитектуры: Учебник для вузов. - Л.: Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1984. - 312 с.: ил.
64. Портал «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» («Old.voopik.ru») [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://old.voopik.ru/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
65. Портал «Малые Острова России» [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http:// www.isles.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=984, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
66. Портал «Моя Русь» [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://www.yogurtsov.ru/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
67. Портал «Деревянное зодчество. Русское деревянное зодчество («M-der.ru») [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://m-der.ru/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
68. Портал «Кенозерье» («Kenozerje») [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://www.kenozerje.17-71.com/kibirev.htm, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
69. Портал «Легкоход.com» («Legkohod.com») [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://www.legkohod.com/reports/onezhskiy_poluostrov.shtml, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
70. Портал «Народный каталог православной архитектуры. Описания и фотографии православных церквей, храмов и монастырей» [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://sobory.ru/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
71. Портал «Наш Край» («Nashkraysev.ru») [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://nashkraysev.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=56&limitstart=2, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
72. Портал «Православные приходы и монастыри Севера» [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://parishes.mrezha.ru/library.php?id=12, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
73. Портал «Православные святыни и святые в истории Архангельского Севера» [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://projects.pomorsu.ru/pss/chapters/chapter1/1.10.shtml, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
74. Портал «Путешественники.ru» («Travellers.ru») [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://www.travellers.ru/city-purnema, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
75. Портал «Российская империя. Карты, планы, схемы» [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://www.rusempire.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=5363, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
76. Портал «Рыбак» («Pbl6ak.ru») [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://pbl6ak.gallery.ru/watch?ph=cDV-bASCE, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
77. Портал «Страна наоборот» («Strana-naoborot.com») [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http:///www.strana-naoborot.com/Unezhma/vse_o_nei/08_gunn.htm, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
78. Портал «Фото Планета. Фотографии городов, поселков, сел и деревень» («Foto-planeta.com/region/») [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://foto-planeta.com/np/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
79. Портал «Images.yandex.ru› («Яндекс. Картинки») [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://www.images.yandex.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
80. Портал «Karaed.ru» [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://www.karaed.ru/Expedition_WhiteSea/), свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
81. Портал «Kulturnoe-nasledie.ru» [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://kulturnoe-nasledie.ru/monuments/php?id=, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
82. Портал «Onegaonline.ru» [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://www.onegaonline.ru/html/dz2/seetext.asp?kod=95, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
83. Портал «Readtiger.com» [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://img.readtiger.com/wkp/ru/USSR_map_NQ_37-13_Luda.jpg), свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
84. Портал «Ru.wikimedia.org» [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://ru.wikimedia.org/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
85. Портал «BVSV.livejournal.com» [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://bvsv.livejournal.com/37807.html, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
86. Постановление администрации Архангельской области от 13.08.1998 № 207 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры Архангельской области» [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://zakon-region.ru/arhangelskaya-oblast/33380/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
87. Пушкарев И.И. Описание Российской империи в историческом, географическом и статистическом отношениях. Т.I. Кн.2. - СПб., 1845. - С.35-37.
88. Родионов А.В. Из истории села Пурнема [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://www.kenozerjelive.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
89. Родионов А.В. Поморские селения Онежского берега как полигон комплексных генеалогических и генетических исследований // Известия Русского генеалогического общества. - 2003. - Вып. 13. - С. 5-40.
90. Родионов А.В. Поморские селения Онежского берега как полигон комплексных генеалогических и генетических исследований [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://www.kenozerjelive.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
91. Рывкин В.Р. Формирование архитектурно-ландшафтной среды в условиях Карелии на примере Валаамского комплекса: композиционные и историко-архитектурные аспекты. Т.1. - Дис. на соиск. учен. степ. канд. архитектуры. - Петрозаводск, 1981. - 150 с.
92. Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел: [по сведениям 1859 года]. Т. I.: Архангельская губерния. - СПб: Изд. Центр. стат. ком-та М-ва внутр. дел, 1861. - [XXXIX], 131 с.
93. Список населенных мест Архангельской губернии. - Архангельск, 1918. -108 с.
94. Список населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 года с приложением списков населенных мест Мурманской губ., Кемского уезда, Корельской Трудовой Коммуны и Печорского уезда, Области Коми (Зырянской). - Архангельск: Тип. Архбумсоюза Кооперативов, 1922. - 302 c.
95. Список упраздненных волостей и сельских обществ Архангельской губернии на 1-е октября 1924, с картой упоминаемых в списке волостей. - Архангельск, 1924. - 118 с.
96. Создание многоцелевой образно-графической и текстовой базы данных по памятникам народной архитектуры Южного Поонежья для сети Интернет: Отчет о НИР (промежуточный) Ч. 1, Ч 2 / ПетрГУ; Руководитель П.П. Медведев. - № ГР 01.201.169691; Инв. № 02.201.259205. - Петрозаводск, 2011. - 541 с. - Соисполн.: Е.И. Ратькова, Л.А. Девятникова, Е.П. Медведева. - Библиогр.: с. 291-299.
97. Создание многоцелевой образно-графической и текстовой базы данных по памятникам народной архитектуры Южного Поонежья для сети Интернет: Отчет о НИР (заключительный). Ч. 1, Ч 2, Ч. 3 / ПетрГУ; Руководитель П. П. Медведев. - № ГР 01.201.169691; Инв. № 02.201.359863 - Петрозаводск, 2012. - 720 с. - Соисполн.: Е.И. Ратькова, Л.А. Девятникова, Е.П. Медведева. - Библиогр.: ч. 3, с. 229-234).
98. Старые карты Онежского уезда Архангельской губернии, границы уезда [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://starye-karty.litera-ru.ru/uezd/arh_karta-onezhskiy_uezd.html, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
99. Суслов В.В. Древние деревянные церкви северных губерний. Церковь в селе Чекуево // Художественные сокровища России - 1901 - № 4. - С. 54.
100. Суслов В.В. Памятники древнего русского зодчества». Вып. I. Составил академик В.В.Суслов. - СПб., Изд-ние Императорской Академии художеств, 1895.
101. Суслов В.В. Путевые заметки о севере России и Норвегии. - СПб.: Типография А.Ф. Маркса, 1889. - 75 с.
102. Три похода по Северу (рассказ-воспоминание) [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://www.strana-naoborot.com/3ru/3pohoda/north_trips.htm, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
103. Туристический портал «Куда.ua» [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://rest.kuda.ua/544, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
104. Ульянов И.М. О времени и о себе [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/Uljanov/un_o_vremeni4.htm, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
105. Ульянов И.М. Страна Помория [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://www.strana_naoborot.com/Unezhma/Uljanov/un_pomoria4.htm, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
106. Ушаков И.Ф. Кольская земля: Очерки истории Мурманской области в дооктябрьский период / Под ред. докт. ист. наук И.П. Шаскольского. - Мурманск: Мурманское кн. изд-во, 1972. - 672 с.: ил.
107. Ушаков Ю.С. Ансамбль в народном зодчестве Русского Севера: Пространственная организация, композиционные приемы, восприятие. - Л.: Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1982. - 168 с.: ил.
108. Ушаков Ю.С. Памятники народного зодчества Беломорья - селения Нижмозеро и Пурнема. - Архитектура - Материалы к XXIX научной конференции ЛИСИ. 1-6 февраля 1971 г. - Л., 1971.
109. Харитонов Н.Н. «Онежский альбом». - Архангельск: ЗАО «Архангельский печатный двор», 2003.
110. Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА), ф. 1201, оп. 5, д. 3850, 1760. Дело о переносе на новое место церкви Пророка Ильи Лямецкой волости - л. 1.
111. Шульман Ю.М. История посада Неноксы: К 600-летию первого достоверного упоминания о посаде Ненокса: Ист.-краеведч. очерк. - М., 1997.
112. Энциклопедия Брокгауза и Эфрона [Электронный ресурс]. - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://gatchina3000.ru/big/074/74479_brockhaus-efron.htm, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
Приложение А.
Архитектурно-типологический кодификатор групповых систем населенных мест
(поселенческих кластеров)
Классы (по характеру трудовой деятельности населения групповой системы): «К1» - сельские, «К2» - городские, «К3» - смешанные (сельско-городские); «К/1» - местные, «К/2» - малые, «К/3» - средние, «К/4» - крупные.
Подклассы (с учетом социально-экономических и эволюционно-генетических закономерностей возникновения групповой системы): «ПК1» - сформировавшиеся путем отпочкования новых населенных пунктов от старого селения-ядра: «ПК1/1» - на основе сегментации крестьянских общин, «ПК1/2» – на основе распада коллективов «задружного» типа; «ПК2» - сформировавшиеся путем механической концентрации населенных пунктов, не имеющих общих генетических корней.
Типы (по объемно-планировочной структуре групповой системы): «Т1» – со зрительно разобщенными структурными частями, «Т2» - со зрительно слившимися структурными частями, «Т3» - смешанные (разобщенно-слитные); «Т/1» - с равнозначными структурными частями, «Т/2» - с иерархически соподчиненными структурными частями, «Т/3» - смешанного варианта, «Т/(1)» - соподчиненными в одном уровне, «Т/(2)» – соподчиненными в двух уровнях, «Т/(3)» - смешанного подварианта.
Подтипы (по форме пятна застройки групповой системы): «ПТ1» - линейные, «ПТ2» - центричные, «ПТ3» - ковровые, «ПТ4» - смешанные.
Виды (по композиционным особенностям внутренней организации групповой системы): «В1» - без структурообразующих элементов, «В2» - с природно-ландшафтными структурообразующими элементами: «В2/1» - с реками, «В2/2» - с берегами озер, «В2/2» - с берегами морей, «В2/4» - с комбинацией природно-ландшафтных структурообразующих элементов, «В3» - с искусственными структурообразующими элементами: «В3/1» - с гужевыми дорогами, «В3/2» - с автомобильными дорогами, «В3/3» - с железными дорогами, «В4» - с комбинированной системой естественных и искусственных структурообразующих элементов, «В/(1)» - композиционно-соподчиненные структурообразующим элементам, «В/(2)» - частично соподчиненные, «В/(3)» -автономные по отношению к структурообразующим элементам.
Подвиды (по характеру акцентировки пятна застройки групповой системы): «ПВ1» - нейтральные, «ПВ2» - периферийно-акцентированные, «ПВ3» - центрично-акцентированные, «ПВ4» - смешанно-акцентированные, «ПВ/1» - с акцентами, расположенными вне пятна групповой системы, «ПВ/2» - с акцентами, расположенными внутри пятна групповой системы, «ПВ/3» - с акцентами, расположенными на границе пятна групповой системы, «ПВ/4» - с комбинацией выше перечисленных вариантов, «ПВ/(1)» - с акцентами, расположенными на осях структурообразующих элементов (с взаимным усилением композиционных качеств обоих), «ПВ/(2)» - с нейтральным расположением акцентов по отношению к структурообразующим элементам, «ПВ/(3)» - с комбинацией вышеперечисленных подвариантов, «ПВ/(01.1)» - с одним-двумя акцентами, «ПВ/(01.2)» - с тремя-семью акцентами, «ПВ/(01.3)» - с числом акцентов более семи, «ПВ/(02.1)» - с равнозначными акцентами, «ПВ/(02.1)» - с иерархически соподчиненными акцентами, «ПВ/(03.1)» - соподчиненными в одном уровне, «ПВ/(03.2)» - соподчиненными в двух уровнях.
Разновидности (по взаимосвязи групповой системы с окружающим ее природным ландшафтом): «Р1» - с активным использованием ландшафта (с усилением его композиционных качеств), «Р2» - с пассивным использованием ландшафта (с нивелировкой его композиционных качеств), «Р3» - с нейтральным отношением к композиционным особенностям ландшафта, «Р4» - с искажением ландшафта, «Р5» – с комбинацией вышеперечисленных разновидностей.
Приложение Б.
Групповые системы населенных мест Архангельского Поонежья
конца XIX – второй половины XX веков
Таблица Б.1 - Групповые системы населенных мест Архангельского Поонежья конца XIX - второй половины XX веков
2.1.2 Вонгудская
«К1/2(2)(01.5->01.5), ПК1/1, Т3/2(1), ПТ2, В4/_(1):[В2/1(1)+В3/1(1)], ПВ3/2(3)(01.1)(02.1), Р1»
2.1.3 Ворзогорская
«К1/1(1)(01.2), ПК1/1, Т1/2(1), ПТ1, В4/_(4):[В2/2(1)+В2/1(3)+В3/1(1)], ПВ4/3(3)(01.1)(02.2)(03.2)(04.1), Р1»
2.1.5 Карельско-Высокогорская
«К1/1(1)(01.3->01.2), ПК1/1, Т2/1, ПТ1, В2/1(2), ПВ3/2(1)(01.1)(02.1), Р1»
2.1.6 Кушерецкая
«К1/2(2)(01.7->01.1), ПК1/1, Т3/2(1), ПТ2, В4:[В2/1(2)+В3/1(3)], ПВ5:[ПВ2/2(1)(01.1)(02.1)->ПВ1], Р1»
2.1.7 Кяндская
«К1/2(2)(01.4->01.1), ПК1/1, Т3/2(1), ПТ2, В4:[В2/1(1)+В3/1(2)], ПВ3/2(1)(01.1)(02.1), Р1»
2.1.8 Лямицкая
«К1/2(2)(01.3->01.1), ПК1/1, Т1/2(1), ПТ1, В2/1(1), ПВ5:[ПВ2/1(1)(01.1)(02.1)->ПВ1], Р1»
2.1.9 Макарьино-Семеновская
«К1/1(1)(01.2), ПК1/1, Т1/1, ПТ1, В2/1(2), ПВ3/2(1)(01.1), Р1»
2.1.10 Малошуйская
«К1/2(2)(01.3->01.1), ПК1/1, Т3/2(1), ПТ2, В4/_(4):[В2/1(2)+В3/1(3)], ПВ5:[ПВ4/3(3)(01.2)(02.3)(03.2)(04.2)->ПВ3/2(1)(01.1)(02.1)], Р1»
2.1.12 Нименьгская
«К1/3(3)(01.8->01.1), ПК1/1, Т1/1, ПТ1, В4/_(1):[В2/1(1)+В3/1(1)], ПВ5:[ПВ4/3(3)(01.2)(02.3)(03.2)(04.1)->ПВ3/2(1)(01.1)(02.1)], Р1»
2.1.13 Онежская
«К3/1(2)(01.7), ПК3:[ПК1/1+ПК2], Т3/2(1), ПТ2, В4/_(2):[В2/1(2)+В2/2(2)+В3/1(2)+В3/2(2)], ПВ3/2(1)(01.1), Р1»
2.1.16 Подпорожская
«К1/2(2)(01.7->01.4), ПК1/1, Т3/2(1), ПТ4:[ПТ1+ПТ2], В4/_(1):[В2/1(1)+В3/1(1)], ПВ3/2(3)(01.1)(02.1), Р1»
2.1.17 Порогско-Павловская
«К1/2(2)(01.4->01.2), ПК1/1, Т3/2(1), ПТ2, В4/_(4):[В2/1(1)+В3/1(2)+В3/2(3)], ПВ5: [ПВ4:[ПВ2+ПВ3]/2(3)(01.1)(02.2)(03.2)(04.1)->ПВ3/2(1)(01.1)(02.1)], Р1»
2.1.18 Пурнемская
«К1/2(2)(01.5->01.1), ПК1/1, Т3/1, ПТ4:[ПТ1+ПТ3], В4/_(4):[В2/1(1)+В3/1(2)], ПВ2/1(1)(01.1)(02.1), Р1»
2.1.20 Унежемская
«К1/1, ПК1/1, Т2/2(1), ПТ1, В4:[В2/1(1)+В3/3(3)], ПВ3/2(1)(01.), Р1»
2.1.22 Чекуевская
«К1/1(2), ПК1/1, Т1/2(1), ПТ4:[ПТ2+ПТ3]), В4:[В2/1(2)+В3/1(2)], ПВ3/1(1)(01.1), Р1»
2.2.1 Ненокская
«К1/2(2)(01.6->01.1), ПК1/1, Т2/2(1), ПТ2, В4:[В2/1(2)+В2/2(2)+В3/1(2)], ПВ5:[ПВ4:[ПВ2+ПВ3]/3(3)(01.1)(02.1)(03.2)(04.1)->ПВ3/2(1)(01.1)(02.1)], Р4:[Р1+Р2]»
2.2.3 Уно-Лудская
«К1/1(1)(01.2), ПК1/1, Т1/1, ПТ1, В4/_(4):[В2/1(1)+В3/1(3)], ПВ2/2(1)(01.1)(02.2)(03.1), Р1»